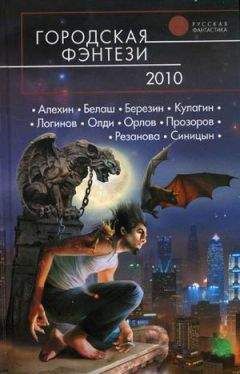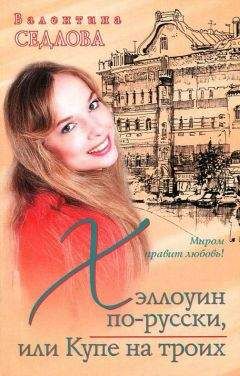Мне стала противна собственная глупость, захотелось поскорее кончить трудный разговор, и я обратилась уже к Лису:
— Ты знаешь, Лис, что ничего похожего не было. Я уверена, тебе стыдно за Шурку. Поэтому скажи ему сам все что надо и скажи ребятам в общежитии, что Шурка наврал и нахвастался. Вот и все.
Затем я встала, как королева, закончившая аудиенцию. Отмела попытки Шурки объясниться и проводила их до выхода, подав руку только Лису. А когда закрыла за ними дверь, почувствовала страшную усталость, словно подняла непосильную тяжесть, и сделала то лучшее, что получается только в юности: прикорнула на диване и немедленно заснула. Вернувшаяся с уроков мама была крайне удивлена, увидев меня крепко спящей, и еле добудилась, чтобы спросить:
— Заболела?
— Ой нет, как раз наоборот! — ответила я таким счастливым голосом, что мама весь вечер подозрительно на меня посматривала и как бы невзначай выясняла, из заходил ли сегодня Палька Соколов.
Лелька пришла в восторг от моей королевской «аудиенции» и не преминула сказать Шурке при немалом количестве свидетелей:
— Ну что, шаромыжник, получил пощечину? Поделом, не ври, а то и мы с Мишей добавим.
— Последняя сцена последнего акта, — смеялась она потом.
Мы с Лелькой жили в кругу представлений, навеянных театром.
К театру мы приобщились в первый же год начавшейся дружбы, когда никаких средств для этого у нас не было, кроме ловкости и смелости. Путь во все театральные залы нам подсказала удача с проникновением на конгресс Коминтерна — уж если и туда попали!.. Принцип был ясен — без билетов. Постепенно мы превратили наши вылазки в своеобразный спорт: зайцем на трамвае до театра, зайцем в театр и зайцем же на трамвае домой. Мы так втянулись в этот вид спорта, что однажды в Мариинке, проникнув в ложу бенуара, где очень милые молодые люди не только усадили нас впереди, на лучшие места, но и набивались потом в провожатые, мы категорически отказались от симпатичных провожатых, боясь, что они захотят заплатить за трамвайные билеты.
В театры мы попадали так: проскочив в гардероб и сдав пальто, бежали на галерку, там контроль был куда снисходительней, чем у дверей в партер, которые неотлучно охраняли уцелевшие еще от времени старого, императорского театра (может, так нам представлялось?) солидные капельдинеры в ливреях с позументами, по-Лелькиному — «пантеры»; с галерки, перевесившись через борт, мы пристрастно изучали публику в ложах бенуара и бельэтажа — психологическая задача заключалась в том, чтобы не нарваться на нэпманов или на чопорных мещан, а угадать людей веселых, без гонора, любящих искусство; выбрав подходящую ложу и определив, под каким номером ее искать, мы шли вниз и чинно прогуливались по коридорчику вдоль лож, приучая «пантеру» к виду двух мирно беседующих девушек, бесспорно обеспеченных билетами; гуляя, мы дожидались минуты, когда «пантера» отвернется, проскальзывали в нужную ложу и скромненько просили разрешения постоять у стенки, никого не беспокоя, так как с наших мест на галерке ничего не видно. Психологическим чутьем природа нас не обделила, я не помню случая, чтобы нас прогнали.
Начали мы с Мариинского театра — ныне это Академический театр оперы и балета имени Кирова. Сперва нас повела туда любознательность, потом я по-новому полюбила музыку, открыв для себя прелесть вокального искусства, то пиршество голосов, какое дает опера, когда выделяются, спорят, сливаются воедино и вновь вырываются на простор великолепные, заполняющие весь зал мужские и женские голоса, а затем вступает хор с его чудесным многоголосьем, таким выразительным, что за несколькими десятками поющих людей ощущаешь толпу, народ с его многоликостью и единством, и все это объединяется оркестром, именно он ведет и организует всю сложность музыкальной жизни — жизни, полной действия, любви и страданий, борьбы и решений, которая разворачивалась на сцене и через такую необычную, захватывающую форму выражения доходила до твоего стесненного волнением сердца. «Риголетто», «Аида», «Чио-Чио-Сан», «Лоэнгрин», «Риенци», «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Травиата», «Зигфрид», «Кармен», «Дон-Жуан», «Тангейзер»… Вагнер, Чайковский, Моцарт, Пуччини, Бизе, Рахманинов, Верди… Хрустальная колоратура Горской и глубокое меццо-сопрано молодой Максаковой, сочный баритон Сливинского, мощный бас Рейзена и безукоризненное искусство стареющего Ершова… Ершов уже расставался с оперной сценой и в «Лоэнгрине» (своем знаменитом «Лоэнгрине»!) прощался с публикой, которой он доставил столько радости и которая так благодарно, со слезами, с цветами провожала его… А через год он все же выступил еще раз, не устояло сердце большого артиста, и снова был «Лоэнгрин»… Мы и второй раз проникли на прощальное выступление Ершова, в публике говорили, что у него иногда срывается голос, «дает петуха» на верхних нотах, и я с таким тревожным сочувствием слушала его и так волновалась, когда его уже ослабевший голос брал верхние ноты, что у меня от напряжения заболело горло, но никаких «петухов» не было, осталась радость от встречи с чарующим талантом.
Как ни странно, ни я, ни Лелька не тянулись к балету, может, не научились понимать его язык. Балет ассоциировался у нас с императорской сценой, с придворными балетоманами в первых рядах партера, с услаждающим зрелищем для пресыщенных людей. Хорошо это или плохо, но так было. И по-настоящему я «открыла» для себя балет только несколько лет спустя, когда появился могучий Вахтанг Чабукиани и гениальная Уланова, «обыкновенная богиня», как ее называли. Впервые я увидела ее в «Жизели» — в первом акте она жила так естественно, что я даже не заметила, танцует ли она, а во втором, на кладбище, после скольжения и кружения балерин — «девичьих душ», казавшихся бесплотными, вылетела на сцену Уланова, будто и не касаясь пола, и все другие танцовщицы показались тяжелыми… Но это было уже в начале тридцатых годов.
А в первой половине двадцатых, бегая по очереди то в одни, то в другой оперный театр, так что за два года прослушали весь их репертуар, мы с Лелей озирались и прислушивались, где и что возникает интересное, новое. В новизне революционных лет очень хотелось и новизны в театрах, а она еще только зарождалась, — сейчас странно вспоминать, что еще не заявили о себе новые, советские композиторы и драматурги, еще учился в школе Шостакович, не появилось ни одной советской оперы… Правда, была попытка использовать музыку Пуччини и по новому либретто переделать «Тоску» в оперу о парижских коммунарах, но сама идея была порочной, «Борьба за коммуну» сошла со сцены.
Мы скоро разобрались в том, что новые веяния и поиски сосредоточились не в Мариинке, а в молодом коллективе бывшего Михайловского театра, ныне Малого театра оперы и балета. До революции это был императорский французский театр, в дни революции французская труппа уехала на родину, а в помещении театра шли спектакли разных жанров — оперы, оперетты и даже драматические спектакли. Уже приобретало известность имя дирижера Самосуда, сделавшего для нового оперного коллектива и для создания нового репертуара так много, что театр стали называть «лабораторией советской оперы». В первой половине двадцатых годов его усилия еще не выявились, мы просто чувствовали, что в Михайловском как-то свежее, интересней, и бегали на все спектакли подряд, на «Майскую ночь» и на «Фауста», на «Корневильские колокола» и «Сказки Гофмана», на «Золотого петушка» и «Похищение из сераля»…