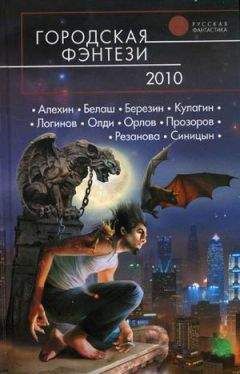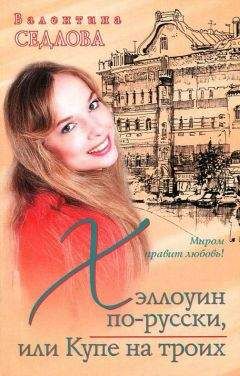1923 год врезался в мою духовную жизнь двумя крупнейшими и счастливыми открытиями — я открыла для себя Мейерхольда и Маяковского.
В тот год в Москве развернулась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка — скромная предтеча нынешней ВДНХ. Внешкольный институт организовал студенческую экскурсию на выставку, и я впервые попала в Москву. Сама выставка помещалась там, где сейчас ЦПКО — Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, — по нынешним критериям она была довольно бедна, но тогда выглядела внушительно и поражала разнообразием: от племенных быков и первых сельскохозяйственных машин до художественных изделий из дерева и кости, до глиняной посуды и цветастых игрушек. Ночевали мы в каком-то общежитии и рано утром веселой стайкой спешили на выставку, все дотошно осматривали, попутно катались на «колесе» и на качелях, где-то там же по талонам кормились, а когда ноги отказывали, садились в круговой трамваи к открытому окну, на ветерок, вытягивали занемевшие ноги и совершали часовую поездку по всему кругу, возвращаясь к воротам выставки, благо экскурсантам представлялся бесплатный проезд в трамваях. В один из вечеров рядом с выставкой, в Нескучном саду, мы и увидели мейерхольдовскую «Землю дыбом».
Спектакль давали на открытом воздухе, в парке. Были ли там скамьи или зрители стояли — это не имело для меня значения, я согласилась бы стоять на одной ноге или висеть на суку, лишь бы увидеть то, что происходило на странной деревянной конструкции, похожей на две площадки между фермами моста, — действие шло на обеих площадках, актеры влезали на верхнюю по лесенке, напоминающей корабельный трап или обычную стремянку, а спускались на нижнюю как акробаты. Это был спектакль о революции, поставленный революционно и яростно, с выдумкой, с юмором броским, грубым, рассчитанным на большие массы людей на больших площадях, насыщенный пафосом недавней гражданской войны — и горем, затрагивающим тоже большие массы людей. Зрители валились от хохота, когда император в расшитом мундире садился на горшок, после чего денщик, зажав нос, бегом уносил горшок с эмблемами императорской власти на боку; они бурно аплодировали, когда императора засовывали в мешок, и замирали, когда белое офицерье развязывало мешок и, опознав его величество, оказывало ему полагающиеся почести; и тут же снова раздавался неудержимый хохот, потому что выбегал повар с живым петухом под мышкой — для императорского обеда, — а петух вырывался, начинал метаться по площадке, и повар (его играл Эраст Гарин!) носился за ним, пытаясь поймать и каждый раз по-новому уморительно упуская петуха. И та же масса зрителей горестно замолкала, когда прямо на сцену — на площадку — выезжал настоящий грузовик с красным гробом и под скорбную музыку не только актеры — массы зрителей вздыхали, вытирали глаза, то тут, то там раздавались рыдания… Кто из тогдашних зрителей не терял близких и друзей в недавних боях! В герое революционных боев, лежавшем в красном гробу на грузовике, почти каждый видел кого-то своего, и горе сдавливало сердце, и слезы и рыданья рвались наружу…
Медленно уходили мы из Нескучного сада, слишком потрясенные, чтобы делиться впечатлениями. С этого часа я знала, что революционный театр уже есть, настоящее паше искусство уже есть, и каждый новый спектакль Мейерхольда был — для меня, и я вырывалась в Москву, пролезала сквозь кордоны милиции, когда мейерхольдовцы приезжали на гастроли, и вместе с толпами молодежи сминала контроль у входа, но ни одного спектакля не пропустила.
Никак не припомню, где я впервые увидела Маяковского — тогда ли в Москве, или в Питере, в Капелле, где потом не раз слушала его, или еще где-то. В памяти остался темный занавес в глубине какой-то сцены, на фоне этого занавеса быстро входит Маяковский, смотрит в зал строго и придирчиво — кто, мол, такие и для чего столько вас набежало? Поглядев, сиял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула — и начал читать стихи. «Мир огромив мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний»… Нет, он тогда не читал «Облако в штанах», просто он был всем обликом и повадкой похож на эти строки и на другие оттуда же: «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется…»
Я знала, конечно, стихи Маяковского и некоторые из них любила — о лошади, упавшей на Кузнецком, о скрипке, о маме и испорченном немцами вечере, ну и, конечно, «Облако в штанах». Кое-что даже помнила наизусть. Но только с того вечера, когда я услышала самого Маяковского, я поняла, как надо его читать, почувствовала строй и дух его поэзии. Маяковский знал, что читателю трудно воспринимать его стихи, рожденные для неповторимой манеры чтения и мощного голоса самого поэта, знал — и выступал много, читал щедро: приучал к себе.
В том году вышла новая поэма Маяковского — «Про это». Мне повезло купить ее, тонкую книжку формата тетради, с женским большеглазым лицом на обложке и с несколькими листами фотомонтажей внутри; фотомонтажи были выразительны, необыкновенны, почти в каждом повторялась та же большеглазая женщина и фигура самого Маяковского. А поэма была про любовь. Что может быть привлекательней для семнадцатилетней? Я читала вслух и про себя, товарищам и наедине… О, эта любовь была велика, как сам Маяковский, и ревность и страдание были велики, как он сам, эта любовь противостояла мещанскому быту, пошлости и душевной тупости, она вырывалась из косности быта к каким-то вселенским масштабам…
Мы еще не успели освоить поэму, когда на поэта набросились со всех сторон, и справа, и слева. На него всегда ярились, но тут нападки были особо жестоки, собственные слова Маяковского «в этой теме и личной, и мелкой» обернули против него самого. В нападках ощущалась злоба, далекая от интересов поэзии. И была у критиков странная глухота: ведь даже нам, неискушенным юнцам, было очевидно, что вся поэма — рывок от мелкого и личного к большому и всеобщему!
Маяковского, по существу, обвиняли в том, что он заметил расцветшее, расползающееся при нэпе самодовольное мещанство! А кто же его может не заметить, кроме самих мещан, думала я, и как можно победить мещанство, если делать вид, что его нет? Почему они не понимают, критики, что поэт, если он настоящий поэт революции, должен и замечать, и страдать оттого, что мещанство снова расплодилось и хочет сожрать все революционное, все чистое и большое?! Он же борется с ним ради того, «чтоб всей вселенной шла любовь»!
СоблазныКакой ясной мне представлялась жизнь еще год-два назад! Подобно солдату у Джона Рида, я знала — «есть два класса — буржуазия и пролетариат…».