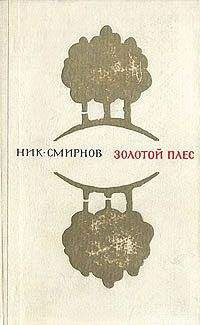- В самое ближайшее время. Надо выбрать заказной денек, надо устроить такую охоту, чтобы вы, Исаак Ильич, хоть изредка вспоминали о нас в Москве.
- Ну, Плес я никогда не забуду, - мягко отвечал Исаак Ильич. И, прощаясь с Альбицким, радушно прибавлял:- А вы, Петр Иваныч, заглядывайте ко мне.
Петр Иванович по-девичьи розовел от удовольствия.
Альбицкий, Вьюгин и Фомичев, все вместе, зашли однажды воскресным утром к художнику. Они вошли в комнату со старомодно-изысканной вежливостью, с бесконечными извинениями и пожеланиями. Исаак Ильич встретил их с той прямой и открытой, покоряюще гостеприимной простотой, с которой встречал людей, нравившихся ему. Софья Петровна, как всегда и везде, тоже сразу Павла искренний и дружелюбный тон, неизменно очаровывавший в ней. Она быстро собрала закуску, достала бутылку хорошего вина, хозяин, Ефим Корнилыч, принес самовар, присоединился к беседе, и в комнате, пахучей от табака, светлой от солнца, стало уютно, весело, непринужденно.
Иван Николаевич долго, строго и пытливо вглядывался в полотна, делал кое-какие замечания: «Мне кажется, что здесь краски следовало бы положить несколько гуще, а здесь светлее...» - и наконец сказал, благодарно блестя верными глазами:
- Я - коренной плесянин, с детства знаю каждый уголок, изображенный на ваших картинах, но я никогда, конечно, и думать не мог, что наш Плес так хорош. Наши глаза притупились от его красот, мы не замечаем их, и вот вы, Исаак Ильич, дарите и возвращаете нам нашу настоящую родину. А что будут чувствовать те зрители на столичных выставках, которые вдруг увидят и поймут, что они живут в краю, в стране, которая, может быть, краснее всех других стран в мире! Взволнованный Альбицкий удивлялся:
- Какая легкость, какая простота! Ведь все это - наше, родное, то, чем живет русская душа. Вы, Исаак Ильич, настоящий поэт. - Он почтительно позвенел своей рюмкой о рюмку художника и с твердым убеждением сказал:- Вы - Тургенев живописи!
Исаак Ильич смущенно улыбнулся, заговорил об охоте, стараясь замять разговор, но Иван Федорович Фомичев перебил художника.
- Не смущайтесь и не гневайтесь, милейший Исаак Ильич, мы люди простые, говорим только то, что чувству, ем. - Фомичев высоко поднял рюмку, запламеневшую от солнца, и торжественно произнес: - За великого художника русской природы! - И, церемонно, как в кадрили, кланяясь Исааку Ильичу и Софье Петровне, сказал:- А теперь честь имею пригласить вас к себе. День прекрасный, путь близкий - лодка ждет у берега, - угощение деревенское, но вся душа нараспашку...
Исаак Ильич с удовольствием согласился. Софья Петровна отказалась, но с такой искренностью, что обижаться было нельзя.
- Простите меня, Иван Федорович, но я, во-первых, утомлена, во-вторых, это холостяцкая пирушка, на которой без женщины все вы будете чувствовать себя свободнее. На таких пирушках, - улыбнулась она, - полагается известное «свободомыслие», юношеские воспоминания, гитара, песни и пляски цыганок или деревенских молодиц.
Она приветливо пожала всем руки, по своей привычке крепко встряхивая их, и сказала:
- Желаю веселья, господа!
Софья Петровна видела, как быстро, наискось, пересекала Волгу остроносая лодка, и крепко закусывала губы: разлука с Исааком Ильичом даже на один вечер волновала и удручала ее. Но сейчас ей - бывают же такие минуты! - хотелось остаться одной, над чем-то глубоко подумать, что-то окончательно разрешить (хотя она заранее знала, что ничего не разрешит). Она, по московской привычке, с ногами забралась на диван, стала не мигая смотреть в окно, в которое чуть билась желтая березовая ветка, похожая на распущенный браслет.
В комнату со стуком вбежала Веста.
- Веста, золотко! - приласкала ее Софья Петровна.
Собака подняла умные глаза и, подумав, весело махнула на диван, легла рядом с Софьей Петровной, положив голову на ее ноги. Софья Петровна обняла собаку, притянула к себе.
- Что ж, роднуша, - сказала она, - пойдем пройдемся, - и легко соскочила на пол, подошла к зеркалу.
Волосы за лето чуть выцвели, африканские губы, в силу противоположности с кофейно-угольным загаром, казались багряными, как стручковый перец. Резко выступали над губами горькие морщины. В бедрах ощущалась полнота.
«Старею», - подумала с раздражением Софья Петровна, туго сшнуровывая скрипучую броню корсета.
Она надела серебристое шерстяное платье, фетровую шляпку с темной лентой, натянула лайковые перчатки, перекинула через руку вязаную кофточку, взяла тонкую трость и легко, молодо вышла на улицу.
Веста, кружась, неторопливо бежала впереди.
Софья Петровна поднялась на гору, в парк, стала тихо бродить по аллеям. За Волгой разливалась гармошка, внизу, в долине, в доме старичка фельдшера Меркурьича, чудака и - музыканта, звучала скрипка - тонко, трогательно, грустно. Отовсюду - и из облетающих садов, и с базара, и с Волги - тянуло запахом яблок. По небу легчайшими одуванчиками пробегали облака. Медленно опадали листья, и Софья Петровна, следя за их полетом, так хорошо соединявшимся с звуками скрипки, чувствовала подобье какого-то легкого головокружения... будто в юности, в институте, от вальса, уносившего в раздолье зала. Как весело пунцовела скользкая перевязь в ее косах, как скромно золотился теплый медальон на открытой шее, сколько страстности было в каждом движении и сколько противоположных и зовущих чувств волновало душу страстной девушки-дикарки!..
Ветер приносил, возвращал тепло и ласковость лета, которое еще больше усилило и углубило ее чувства к Исааку Ильичу. Сейчас, вспоминая летние дни, такие недавние, как будто светившиеся в лиловых просветах берез, она с особенной глубиной осознала их очарование. Какое это, в самом деле, счастье - чувствовать и слышать, проснувшись утром, рядом, со стеной, присутствие родственно близкого человека, бродить с ним по этим пригородным лесам, смотреть, как он работает под своим белым зонтом, всячески дорожить его спокойствием, его физическим и Душевным здоровьем! Нет, она, конечно, любила художника глубокой и теплой любовью. Но что могла принести ей эта любовь и почему в ее теплоте так много горечи и печали?
Софья Петровна понимала, что, любя художника, она должна была бы порвать с мужем. Но, даже будучи уверенной в чувстве Исаака Ильича, в длительности связи с ним, она, вероятно, не решилась бы на это. Не из-за предрассудков, разумеется, - для нее не существовало никаких предрассудков, - а из чувства какой-то странной привязанности к мужу, из какой-то необходимости в нем. Удивительный все-таки человек этот муж! У него большое и доброе сердце, застенчивая улыбка, вызывающая ласковость и жалость, бесконечная заботливость, мешковатая, сутулая фигура, на которой так неловко - и очень мило - обвисал военно-докторский мундир. Все в нем успокаивало и примиряло Софью Петровну - и тяжеловесно-осторожные шаги, и добродушная молчаливость, и беззлобная шутка, которой он отделывался в горькие минуты.