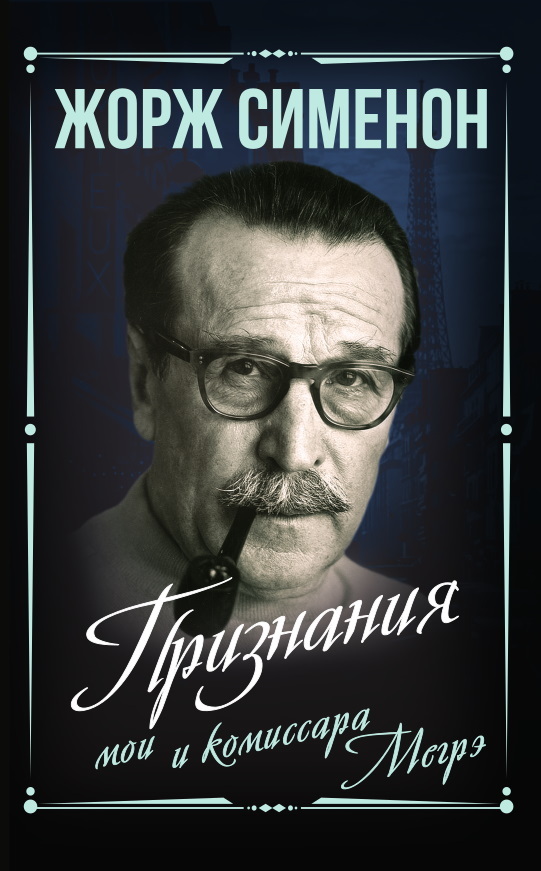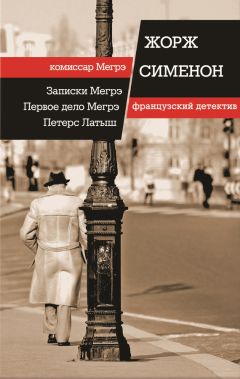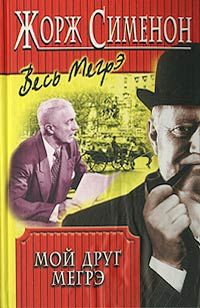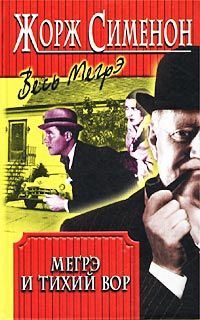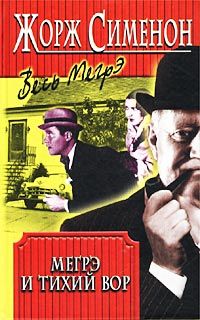труда. Если так пойдет и дальше, мне придется платить налоги мешками с зерном…
И он, пожалуй, прав!
Он-то не виноват. Виноваты те, кто разрешил за двести тысяч франков купить имение, которое стоит пятьсот пятьдесят, те, кто в довершение всего предоставили Малуэну всевозможные кредиты.
Не им ли следовало бы хорошенько считать?
Да и такой ли уж это трудный расчет? До войны Ла-Юшри давало средства к жизни папаше Гролье и возможность поддерживать полуразвалившееся поместье, где владельцы проводили каникулы.
И не только это. У них, у владельцев, было свое молоко, сыр, дрова, яйца, кое-какие фрукты, а в урожайные годы и какая-никакая рента. Максимум два процента с капитала.
До войны хороший фермер трудился двадцать, тридцать лет, прежде чем у него – и то не всегда – возникала мысль приобрести собственную землю. И речь шла не о сорока гектарах.
Так то до войны.
А земля уже и не земля, хлеб не хлеб и медь не медь.
Есть хлеб-вексель, медь-вексель, хлеб-сроком на три месяца, хлеб-репорт [6], хлеб-прима, хлеб-секунда…
Короче говоря, спекулируют. Проспекты, присылаемые тем, у кого водится хоть немного денег, внушают вам:
«Вы имеете возможность купить и продать сырье, медь, зерно, каучук, даже не видя товара. Вы даете указания по телефону, уточняете сумму. Мы приобретаем для вас сто, двести, пятьсот центнеров зерна. Вы делаете секунду, и вы одновременно продавец и покупатель».
Не будем настаивать.
Теперь за Ла-Юшри на аукционе не дадут и трехсот тысяч.
А долги Малуэна превышают эту сумму. Кто же покроет разницу? Малуэн? Банки? Другие кредиторы?
И разумеется, они хором требуют, чтобы вмешалось правительство.
Поскольку банки все же сильнее, рано или поздно имущество Малуэна будет описано, он потеряет плоды трудов своих, а заодно и веру в определенные современные формулы.
Чудак Бине тоже уже не фермер, но будет возить на рынок продукты с фермы, которая принадлежит другому.
А старик Гролье все возится со своими кроликами, персиками, помогает сыну обрабатывать его десять гектаров, и, честное слово, в этом году, продавая зерно по восемьдесят франков, они ничего не потеряли, а, может быть, даже получили прибыль.
Да, у них нет пятисот тысяч франков, они ничего не понимают в векселях и ездят не в автомобиле, а в старой двуколке.
Эта история с зерном – лишь одна из пятидесяти тысяч. Она не претендует на то, чтобы обобщить остальные. И все же я думаю, что нет деревни, где бы она не повторялась в том или ином виде.
Земля слишком дорога, потому что она тоже предмет спекуляции.
Арендная плата слишком высока, потому что те, кто арендует землю, хотят вернуть свои затраты.
Но сколько же тысяч гектаров принадлежат еще молодым или старым Гролье, которых не пугает униформа банковского служащего?
И в конце концов, кто же, по зрелом размышлении, предпочтет, чтобы правительство занялось уменьшением налогов вместо того, чтобы решать зерновую проблему, в которой оно ничего не смыслит?
IX. В центре трагедии. Человек против машины
Неужели двадцать веков цивилизации ничего не значат? В Лиможе мне как-то довелось услышать слова, сказанные с некоторой долей фатализма:
– Город? Да он уже давно умирает.
Улицы и вправду пусты. Здесь вам покажут разрушенные стены, ослепшие окна заводов Монте, которые когда-то стоили сотни миллионов. Но вот уже много лет рабочие не входят в заводские ворота, а из труб не идет дым. Эти огромные и мрачные здания сейчас продаются. По какой цене? Совершенно все равно. Они как обветшалые дворцы, возродить которые не помогут никакие средства.
Десять тысяч безработных ожидают непонятно чего, а «передовой» муниципалитет, который в свои лучшие годы поощрял классовую борьбу, вот уже три месяца безуспешно отпускает все новые и новые средства, чтобы хоть как-то поддержать безработных.
Большинство печей для обжига всемирно известного фарфора теперь погасли. Обувщики работают вполсилы. Кожевенные заводы с трудом борются с конкурентами.
– Фарфора уже не возродить! – уверяют вас.
Обувщики переселяются в другие места. Почему – никто не знает. Нет, знает. Я, например, знаю. Вернее, догадываюсь.
Лимож – это не просто городок в долине. На десять – пятнадцать километров вокруг у каждого ручейка, у самого маленького водопада семейные предприятия, очаги ремесла, производство, где мастерство работника бесконечно важнее, чем вложенный капитал.
Безработный, встретившийся вам по дороге, – это не грубый, полуграмотный чех или японец, поздно познакомившийся с машинами. Еще его отец самолично совершенствовал орудия труда, а дед задолго до инженеров знал, как повысить выработку.
Это и есть Лимож: ремесленники, изобретатели, люди, способные решать весьма трудные задачи. И даже крестьяне в пору межсезонья работают в мастерской инструментами, куда посложнее плуга.
Если все работают – катастрофа отступает, не правда ли?
У обувщиков нет больше понятия «ручная работа», есть только фасон «под ручную работу» – тщательная имитация последней.
Вместо обычного сапожного ножа, которым прежде разрезали подошву, теперь используют нечто вроде вырубного штампа.
А в фарфоровой промышленности метод переводных картинок выкинул на улицу десятки художников, прежде рисовавших вручную восхитительные цветы.
Что в итоге? Чехи и поляки, которые буквально еще вчера не знали никаких машин, оказались теперь вполне способны восемь часов подряд двигать рычаг в заданном темпе.
Способ их существования примитивен, потребности ничтожны. Две тысячи лет цивилизации, лучший в мире климат, благодатная земля и мягкие нравы, плеяды художников и блага непрерывного экономического процветания не привили им ни новых потребностей, ни – тем более! – стремлений.
Разве они, равно как японцы и некоторые другие народы, не представляют собой идеальный человеческий материал для новой формы рабства – зависимости от машины?
Батя прекрасно уловил все это и в самом центре бедной страны воздвиг заводы, целый город заводов, способных обуть всех на свете.
По цене, немыслимой для конкурентов, разумеется.
Это уже не просто индустрия, это целая армия со своим порядком, дисциплиной и, главное, полным нивелированием личности.
На первый взгляд эта история не имеет ничего общего с Лиможем, его обувью и фарфором. Вы, без сомнения, знаете, что на судах, идущих к экватору и в южные моря, кочегарами работают негры.
У них нет никаких потребностей. Свободные в своих джунглях, они живут буквально святым духом. Кроме того, они привыкли к изнурительной жаре.
Так вот, однажды во время такого путешествия мне случилось видеть белого, опустившегося по причинам, о которых я не посмел спросить, до кочегарки, где, обнаженный, среди негров, он полными лопатами кидал уголь в пылающую топку.
Помню его гримасу, когда я с ним столкнулся. Казалось, он говорил:
«Конечно, я мог бы найти что-нибудь другое.