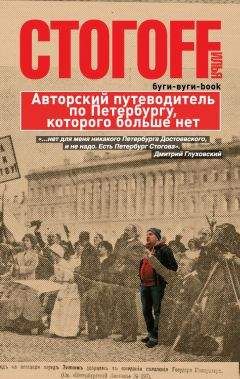Лагерная компания у Гумилева подобралась что надо. Со временем все его тюремные приятели вполне себе выбились в люди. Его основной подельник Шумовский стал после тюрьмы ведущим арабистом страны и уже после распада СССР опубликовал первый поэтический перевод Корана на русский язык. Сергей Штейн, с которым Гумилев в Норильске делил одни на двоих нары, по выходе из лагеря взял себе псевдоним Снегов и опубликовал космическую оперу «Люди как боги», которая в СССР была популярнее и «Звездных войн», и «Стартрека».
А ближайшим приятелем Льва на зоне был Николай Козырев. До ареста он был астрономом, чуть ли не самым многообещающим сотрудником Пулковской обсерватории. Позже, уже в 1960-х, он вернется в Ленинград, восстановится в обсерватории, станет научным руководителем Бориса Стругацкого и опубликует скандальную работу, в которой будет доказывать, что звезды светят так ярко, потому что топливо, на котором движется все во Вселенной, это энергия пожираемого времени, а коли так, то и путешествия в прошлое и будущее вполне с технической точки зрения возможны.
Но до этого было пока далеко. Пока что заключенные Гумилев и Козырев просто валили лес, а вечерами пили у себя в бараке чай. Лев рассказывал Николаю о пассионарности, Николай Льву – о машине времени. Так шли годы.
Срок заключения Гумилева истек в 1943-м. Но и после этого для него ничего не изменилось. Шла война, уехать с Севера, где он сидел, было невозможно. Руководству ГУЛАГа была разослана инструкция, согласно которой освободившихся зэков следовало задерживать в лагерях «до особого распоряжения». Имелось в виду до окончания войны.
Козырев, которому сидеть было еще долго, посоветовал Льву записаться в геологическую экспедицию, которую как раз тогда набирали для отправки куда-то совсем уж в глушь. Мол, все-таки вдали от вертухаев да от колючей проволоки, ну и вообще. Мир посмотришь, себя покажешь. Лев сдуру послушался и в результате следующие несколько месяцев провел в дебрях, о которых прежде даже не подозревал, что такие бывают. Как он позже вспоминал, «из женщин за год удалось увидеть только белку, которую как-то случайно убил палкой».
Ему было уже за тридцать. Молодость осталась в прошлом. И, оглядываясь на эту молодость, он видел только голод, грязь, бараки и тупые лица уголовников. Гумилев хотел заниматься своей любимой историей, спорить, изящно опровергать оппонентов, писать книги, переворачивающие привычные представления. А вместо этого валил лес да бродил по тайге.
Кроме того, Лев был здоровым молодым мужчиной. Ему хотелось семьи. Хотелось любящей супруги, которая разделяла бы его интересы. Хотелось, в конце концов, детей. У некоторых его сверстников дети уже ходили в школу, а все его шаги в этом направлении ограничивались парой студенческих романов. И это к тридцати-то с лишним годам! Кончилось тем, что, держа в руке опасную бритву, Лев явился к начальнику экспедиции и заявил, что либо тот прямо сейчас, прямо при нем подпишет приказ об отправке Гумилева на фронт, либо он вскроет себе вены и у начальника будут неприятности.
Вообще-то отсидевших по антисоветским статьям на фронт не брали. Но обезумевший Лев так махал своей бритвой, что начальник струсил и все бумаги подписал. И Лев отправился на войну.
На войне ему нравилось больше, чем в тюрьме. «Там, – говаривал он позже, – по крайней мере, всегда можно было достать еды». Единственная неприятность: как-то фашистская бомба в щепки разнесла деревянную избу, за которой укрывался взвод Гумилева. Отлетевшая доска ребром угодила Льву прямо в переносицу. Вернуть носу прежнюю форму после этого так и не удалось, но Лев не расстроился. Стал говорить, что до ранения был похож на папу, а после – на маму.
Когда война кончилась, Лев вернулся в Ленинград. Это было так прекрасно, что казалось неправдой. Он признавался, что иногда просыпался по ночам и подбегал к окну убедиться, что действительно вернулся. Что снаружи лежит действительно «самая прекрасная на свете река Фонтанка». Теперь он был свободен и мог заниматься своей наукой. Мог ухаживать за девушками. Впервые во взрослой жизни мог делать все, что захочет. Но главным было не это, а то, что он наконец был дома. В городе, лучше которого нет.
Говорят, девяносто процентов парижан никогда в жизни не поднимались на Эйфелеву башню. А девяносто процентов лондонцев никогда не были в Тауэре. В Петербурге та же история: те, кто родились в этом городе, редко заглядывают в Эрмитаж и свысока смотрят на разинувших рты туристов. Но только до тех пор, пока им вдруг не приходится отсюда уехать. Потому что тут начинаются ломки.
Несколько лет назад я работал на самой популярной в тот момент городской радиостанции. Программным директором станции был парень, служивший в армии где-то в Заполярье. Он рассказывал:
– Знаешь, что было там самым сложным? Нас вообще не кормили, от грязи и холода мы покрывались фурункулами, а уж о такой штуке, как женщины, не приходилось и мечтать. Но это бы все я вынес. А вот по-настоящему невыносимо было то, что я был далеко от Петербурга. Не мог, если захочется, прогуляться по набережным или Невскому. Первый год еще ничего, а потом меня накрыло так, что хоть вешайся. Мама присылала мне открытки с видами Невы, я смотрел на них и плакал. Недостаток архитектуры модерн в организме – диагноз, страшнее которого не придумаешь.
Для Гумилева это было в прошлом. Теперь все должно было стать хорошо. Он устроился библиотекарем в психиатрическую больницу и восстановился в университете. За полтора месяца умудрился экстерном сдать программу сразу двух курсов. Был допущен к защите кандидатской диссертации. Опубликовал первые научные статьи. Совсем крошечные, но ведь нужно же с чего-то начинать, не так ли? От восторга у него кружилась голова: вот та жизнь, вести которую он мечтал большую половину биографии.
Кое-какие сдвиги наметились и в личной жизни. Необходимые для работы книжки он брал в Публичной библиотеке. И там как-то познакомился с милой сотрудницей отдела инкунабул Натальей Варбанец. Папа ее был по национальности серб, а мама – из французских дворянок. За прабабушкой Натальи в свое время пробовал ухаживать Пушкин, да и нечет правнучки все знавшие Наталью в один голос утверждают, что собой она была диво как хороша. Брюнетка с длинной шеей и ямочками на щеках. Знакомые почему-то звали ее Птица. Лев тоже стал звать ее именно так.
Пару раз он пытался флиртовать с ней на рабочем месте. Но там это было сложно, их отвлекали, и Лев напросился к Птице домой. Наталья жила на Соляном переулке, напротив нынешнего Художественного училища имени Мухиной. Из окон был виден чуть ли не самый красивый уголок города. Старая, времен еще Анны Иоанновны, церковь Святого Пантелеймона. Небольшой скверик князей Гагариных. Через Фонтанку – Летний сад.