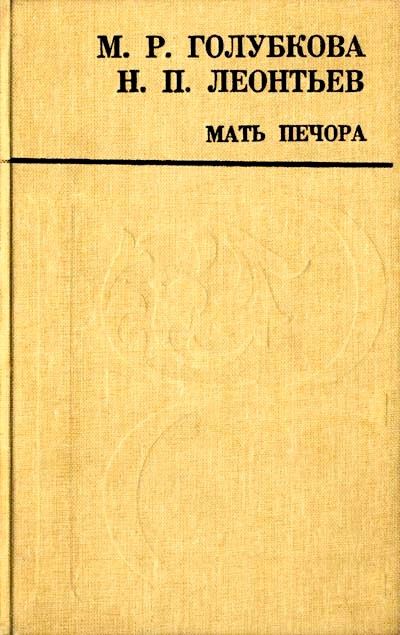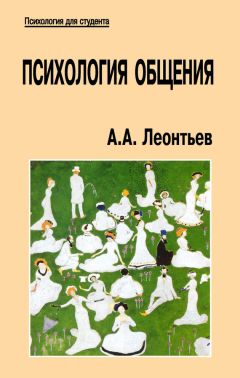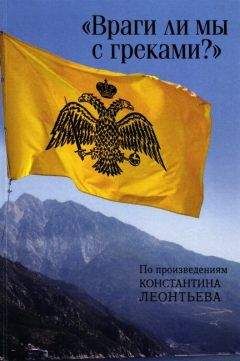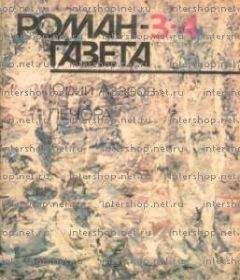пала, что война пришла, забирают мужиков и что моего брата Алексея увозят. Ну, а мы люди хозяйские, как на проводы убежишь? Еще дня три жили на сенокосе, и только когда хлеб кончился, мы проводить вышли. В Оксине все мужики, которые на войну уезжают, собрались, ждут парохода. Из нижних деревень тоже много их наехало на лодках. Тут и плачут, тут и поют, и семьи ревут, да и чужие-то их жалеют. Не гостить поезжают — на войну, на побоище.
Нас особенно не извещали, для чего эта война, только мужики поговаривали, что чьего-то племянника — то ли царского, то ли генеральского — убили, как выезжал он в Германию или в Австрию. Мы тогда только и название первый раз услышали, что есть Германия да Австрия. Мне уже девятнадцать лет было, а я только тогда услышала, что какие-то города называют. А до этого я думала, что сколько я знаю деревень — Оксино да Голубково, Каменка да Лабожское, Виска да низовские деревни — и все тут.
Места наши от городов далеко — за двенадцать быстрых рек, за моря ледовитые, за леса непроходные, за тундры непролазные. Колыхалась наша Печорушка наособине. Никакие вести к нам не доходили, птицы их не приносили. Разве только в царском семействе кто-либо помрет или родится узнавали по звону: повсеместно в церквах колокола звонили. Да еще о войне узнавали по плачу: в деревнях рев стоял.
Дожидаются солдаты отправки, ходят-бродят по Оксину, и семьи за ними волочатся, пока глаза еще видят да ноги носят.
Ночью гроза ударила: гром, молния. Ночь темная, страшная была. Я проснулась и услышала, как под самыми окнами идут солдаты и поют песню:
По архангельской дороге
Идет армия солдатов,
Все солдаты слезно плачут,
Лишь один солдат не плачет.
Он во скрипочку играет,
Всех солдатов утешает;
— Вы не плачьте-ко, солдаты,
Вы не плачьте, молодые.
Как в ответ ему солдаты
Отвечают молодые:
— Да и как же нам не плакать,
Как нам горьких слез не лить?
Наши домички пустеют,
Отцы-матери стареют,
Молоды жены вдовеют,
Наши дети сиротеют.
Слушаю да плачу. Как нож по сердцу резнул. У меня ведь тоже идет на войну брат Алеша. Да и брата бы не было, так я бы все равно плакала. Я уж все на свете пережила — так мне любая боль понятна.
Людям больно, и мне больно и жить тяжело.
Днем у пристани и в домах слышно было, как причитают матери да жены. Особенно убивалась жена Алексея, моя невестка, Лизавета. Она оставалась с двумя ребятишками, третий на запасе. Вот она и плакала:
Уж не ждано было, не думано.
Уж не чато было, неведано,
Что со горем, со печалью,
Со указом немилостивым,
Со приказом да нежалостливым
Осударя да самого царя.
Уж тут горем меня приубило,
Тут печалью да одолило.
Ретиво сердце вередило,
Ровно зубом его укусило,
Как огнем его опалило.
Не в точности я помню, как она плакала, ее слова еще горше были. Все ревут да плачут — где упомнишь!
Алешу мы провожали всей родней, а не только всей семьей. Он людям много не показывал свое горе, а еще людей развеселит да разговорит. Да и чего людям свое горе показывать! Мы все и так его знали. Чем могли его засаривали и веяли, мололи и мельчили. Словами да смехом отгоняем, оно будто и подальше от нас, а отвернулись да замолчали, оно тут же и ютится, около нас.
Я не дождалась, когда брата повезли на пароход. Надо было мне на пожню идти — не своя ведь воля. Работа-то ждет, да хозяевам не терпится. Сколько я ни жила у чужих людей, испытала, что у всех хозяев два ума: один — человеческий, а другой — хозяйский. Одним умом лестят, а другим кастят. Распрощалась я с братом, отправилась на пожню и осталась там со своей новой подругой Агашей.
16
Разговорились мы с Агашей в лугах.
— Ты зырянка? [5] — спросила я Агашу.
— Пошто? Ты не видишь?
— Ижемка? [6]
— Чо ты? Я ведь не по-ижемски говорю.
— Наша русская?
— Чо ты мелешь-то? Руськи небось не таки.
— Ну так я хочу знать, кто ты есть.
— Усть-Цильму-то [7] слыхала? Так я усть-цилемка, не тонконога горожанка.
Усть-Цильма от нас за триста верст кверху по Печоре. Живут там такие же русские, но по виду их отличишь от наших нижнепечорцев. Устьцилемы и крупнее ростом и крепче здоровьем. И одежа их не похожа на нашу: у женщин — длинные, по пятам, сарафаны, широкие рукава и подолы. Из их сарафана наших, не нынешних, а старинных, не меньше двух выйдет. По двенадцати аршин они клали на сарафан да по пять аршин на рукава. Чулки шерстяные разных цветов натянут, приспустят их немножко, и не поймешь, тонка ли, толста ли такая нога.
В Усть-Цильме на сенокосе не так, как у нас, работают. Первое время пришлось мне показывать Агаше, как надо работать. У них днем в жаркое время не косят, а у нас хоть какая жара — не разбирают, в любую жару косим. Косишь, так с тебя на руки пот каплет, как дождь. Агаше за мной с непривычки и трудно тянуться, а не говорит. Сядем когда пить-есть, она от жару мечется и ни пить, ни есть не может.
А я вижу, что из нее может выйти работница, только сноровки недостает. Слыхала я, что устьцилемы по росам косят. Попили чаю, я и говорю ей:
— Агафья, отдохнем нынче.
А она спать крепкая была, уснула сразу же. Обманула я ее и пошла косить. Добрый упряг косила. А потом пришла, чайник снова согрела, Агафью разбудила.
— Чо, ты уже выспалась? — спрашивает меня.
— Нет, — говорю, — вдвоем спать нельзя. Увидит кто ли, хозяевам скажет — худая слава пойдет про нас. А одна-то ты спишь, в случае кто спроси, я скажу, что ты захворала.
— Мотри, как хитра! — удивляется Агафья.
Косим, гляжу — у ней силы вдвое больше прибыло. А все же в косьбе она не могла до меня дотянуться. Зато гребла она проворней меня. А в стога сено класть опять не умела. Вот мы друг дружку узнали и договорились, как нам работать. Я ей объясняю:
— Тебе,