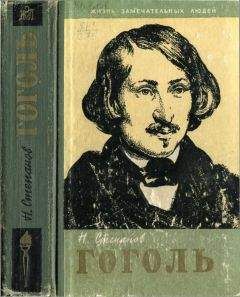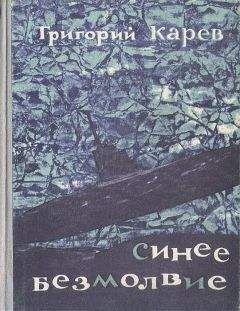К письму Гоголь приложил неутешительный реестр своего бюджета за январь месяц:
Заканчивая письмо, Гоголь писал: «Простите, добрейшая из матерей и попечительнейшая, за мои вечно наносимые вам неприятности. Чего бы я ни дал, чего ни сделал, чтобы избавить вас от них!
Ваш до гроба послушный и нежно вас любящий сын Н. Г. Я.»
Расходы на сахар, свечи, баню, столь точно переименованные в этом реестре, во многом напоминают нищенский бюджет многострадального Акакия Акакиевича Башмачкина — героя повести, навеянной этим невеселым жизненным и служебным опытом самого Гоголя. Мечта о теплой шинели ему так же была хорошо знакома, как и докучливая грошовая экономия. Однако он не поддавался этой засасывающей канцелярской рутине, гнетущей, утомительной бедности.
После пяти часов вечера, наскоро пообедав и накинув прохудившуюся шинель, Гоголь отправлялся на Васильевский остров в Академию художеств. Он быстро переходил Дворцовый мост через Неву и шел по набережной мимо длинного и узкого здания университета, построенного Петром I для 12 коллегий. Напротив, через Неву, виднелся грандиозный Исаакиевский собор, а перед ним Медный всадник, вздернувший на дыбы коня перед самым обрывом гранитной глыбы. У здания Академии широкие ступени, спускавшиеся к воде, охраняли два огромных серых сфинкса, привезенных из Египта.
Гоголь незаметно прошмыгивал через парадный вестибюль, усаживался за мольбертом в натурном классе, накалывал лист бумаги и старательно набрасывал фигуру натурщика. Здоровенный, голый детина сидел на высоком табурете, и несколько человек столь же старательно, как и Гоголь, изображали его в самых разных ракурсах.
Время от времени заглядывали преподаватели — художники А. Егоров и В. Шебуев, уже пользовавшиеся известностью у публики. Они терпеливо просматривали рисунки, поправляли их, советовали. Идеалом для них являлась античная скульптура, ее гармоническая завершенность, благородная красота человеческого тела. Точность пропорций, лаконичная ясность штриха признавались основным достоинством.
В живописном классе преподавал знаменитый Венецианов, учеником которого стал приятель Гоголя, однокашник по Нежинской гимназии Аполлон Мокрицкий. Венецианов учил видеть и изображать на картинах подлинную жизнь, «низкую действительность». Простые деревенские бабы, старики, дети, водолазы, кузнецы — все это служило натурою для картин самого художника и его учеников. Тщательно и любовно запечатлевая детали быта, обыденной жизни, домашние интерьеры, он видел в реалистической правдивости изображения людей труда подлинную красоту.
На улицах уже зажжены были фонари, когда Гоголь возвращался домой. Яким поставил на стол весело шипящий самовар. Появились любимые крендельки. Рядом с ними номер «Литературной газеты», издававшейся бароном Дельвигом, приятелем Пушкина. В этом номере была напечатана глава «Учитель» из повести «Страшный кабан», подписанная «П. Глечик». В ней рассказывалось про непутевого семинариста, который попал «на вакации» в отдаленное украинское село Мандрыки. Один лишь Гоголь знал, кто такой этот Глечик, потому что повесть принадлежала ему. Однако своего секрета он никому не открыл. Слишком еще свежа была боль от раны, нанесенной неудачей «Ганца Кюхельгартена»!
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Время тянулось бесконечно долго. Однообразная, докучливая канцелярская работа, тусклый, безрадостный каждодневный быт, беспокойство о матери и сестрах вконец истомили Гоголя.
Наступил апрель, начиналась весна, дни стали светлее и солнечнее. В открытую форточку лился теплый воздух, доносилось чириканье воробьев и звон лопат, которыми дворники скребли тротуары.
Яким старательно протирал стекла в окошках, утюжил щеткою пол.
Жизнь продолжалась. Вместе с зимним холодом и побуревшим снегом уходили мрачные мысли, приглушалась горечь разочарования. К весне в столице появились и недавние однокашники, бывшие студенты Нежинской гимназии высших наук — Данилевский, уезжавший ненадолго на родину, Прокопович, Пащенко, Базили, Мокрицкий…
В воскресенье решили отпраздновать встречу нежинцев.
В большой комнате был накрыт праздничный стол. Гоголь на кухне вместе с Якимом жарил свиную колбасу, приготовлял вареники, галушки и другие украинские яства. Повязавшись салфеткой, он стоял у плиты и, радостно предвкушая встречу с друзьями, не забывал аккуратно лепить из теста маленькие вареники. Когда все было готово, Гоголь прифрантился: взбил на лбу кок, затянул ярко-пестрый галстучек, облекся в белый, чрезвычайно короткий распашной сюртучок, по тогдашней моде с высокой талией и буфами на плечах. Он походил на молодого петушка, приготовившегося покрасоваться в солнечный день между восхищенными курочками.
Стали сходиться гости. Первым явился Прокопович. У него был вид застенчивого, неуклюжего провинциала, лишь недавно прибывшего в столицу. Затем пришли Данилевский с Базили, Пащенко с Гребенкой. Они принесли с собой запахи весенней улицы, смех, веселое оживление. Вскоре постучался и художник Мокрицкий.
Мокрицкий притащил с собой что-то завязанное в узелке.
— А что это у тебя, брате Аполлоне? — смеясь, спросил Гоголь. — Що це за торбинка?
— Это… это, Николай Васильевич, священне, не по твоей части! — заикаясь, отвечал Мокрицкий.
— Как, что такое? Что значит священне? Покажи! — настаивал Гоголь.
— Пожалуйста, не трогай, Николай Васильевич! Говорю тебе, не можно, це священне…
Гоголь схватил узелок, развязал, и все увидели в его руках детские костюмчики, которые нужны были Мокрицкому для картины.
Бережно завернув костюмчики в узелок, Гоголь завязал его и выбросил в открытое окно на улицу. Мокрицкий вскрикнул от ужаса, бросился к окну, чуть было не выскочил в него, но, увидев, что высоко, побежал к дверям, опрометью спустился вниз и схватил свой «священный» узелок.
Позже всех пришел напыщенный, снисходительно улыбающийся Нестор Кукольник, Возвышенный, как называл его Гоголь, невзлюбивший его еще с гимназии за самоуверенную заносчивость и тщеславие. Возвышенный уже приобрел в столице известность и многочисленных поклонников. Его романтическая драма в стихах «Торквато Тассо» была признана влиятельными литературными кругами почти гениальной.
Разговор зашел о театре. Прокопович посещал театральное училище и даже выступал в небольших ролях, чем чрезвычайно гордился. Он рассказывал о смешном французском водевиле, в котором ему пришлось участвовать:
— Вы понимаете, герой раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать! Просто животики со смеху надорвешь!