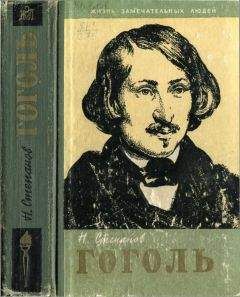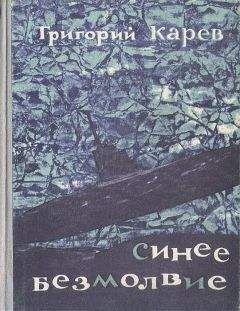Разговор зашел о театре. Прокопович посещал театральное училище и даже выступал в небольших ролях, чем чрезвычайно гордился. Он рассказывал о смешном французском водевиле, в котором ему пришлось участвовать:
— Вы понимаете, герой раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать! Просто животики со смеху надорвешь!
— Вздор какой! — рассердился Гоголь. — Так и полезли водевили на сцену, тешат народ средней руки, благо смешливо! А каково положение русского актера! Перед ним трепещет и кипит свежее народонаселение, а ему дают лица, которых он и в глаза не видел! Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! На сцену их, на смех всем! Смех — великое дело, — взволнованно заключил Гоголь, — он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц… А ты вот радуешься бесцветному и пустому фарсу!
Невский проспект. Литография.
Дом на М. Морской. Верхние правые четыре окна — окна квартиры Н. В. Гоголя Фотография.
Пушкин. Портрет работы художника Тропинина.
Друзья еле-еле успокоили Гоголя. Кукольник, чтобы привлечь к себе внимание, рассказал, что его «Тассо» принят к постановке. Ему сулят небывалый успех… Гоголь и здесь не выдержал, дал волю негодованию:
— Нет, я не одобряю романтических мелодрам! Все дело в них в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах. Палачи! Яды! Эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия. Если собрать все современные драмы, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы! Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама!
Возвышенный обиделся. Тонким и злым голосом он принялся доказывать, что задачей автора является не подражание и копирование жизни, а создание высоких характеров, героических образов прошлого, которые показали бы извечную борьбу страстей, отвлекли бы зрителя от его низменных интересов.
Спор ожесточился. Гоголь, перейдя к драме Кукольника, едко вышучивал ее:
— Еще бы! Характеры у тебя необыкновенно благородны, полны самоотверженья! Вдобавок выведен на сцену мальчишка тринадцати лет, поэт и влюбленный в Тассо по уши! А сравнениями ты играешь, как мячиками: небо, землю и ад потрясаешь, будто перышко!
Разговор грозил перерасти в ссору. Чтобы поднять настроение, весельчак Данилевский затянул комическую песню, сложенную в честь недавних нежинцев, приехавших в столицу:
Все бобрами завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву…
Куплеты были специально для этого дня сочинены Данилевским и Гоголем. Все рассмеялись. Лишь Кукольник скорбно отошел в угол комнаты и снисходительно поглядывал оттуда на собравшихся.
— Ну, хлопцы, сидайте за стол! — пригласил Гоголь.
Все расселись, шумно чокнулись,
— Як ковбаса, тай чарка — минеться и сварка! — шутливо провозгласил Данилевский. — За Нежин, за Сичь!
После нескольких добрых чарок горилки языки развязались.
— А ну, хлопцы, заспиваем нашу ридну украинську, — предложил Пащенко и густым басом затянул:
Ой, на гори там женци жнуть,
А по-пид горою, лисом, долиною
Козаки йдуть!
Все дружно подхватили. Гоголю вспомнились долгие теплые вечера в Васильевке, когда уставшие за день хлопцы за прудом, у левады, пели эту песню про гетмана Сагайдачного.
— Славная песня, — сказал Гоголь. — А не поспивать ли нам теперь что-нибудь про коханье?
Солнце низенько, вечир близенько,
Выйди до мене, мое серденько!
Чарки еще не раз наполнялись, раздавались песни, которые исполнялись нежинцами еще в гимназии, вспоминали недавние годы ученья.
— А что барон Фон-Фонтик? — спросил Гоголь про своего однокашника Риттера, который когда-то так испугался своих «бычьих глаз». По окончании гимназии он пошел служить по финансовой части.
— Табачный таможенный пристав, заводчик кунжутного масла, — рассмеялся Данилевский. — Он пьяный подрался на Матерках с Канчотихою и судился в земском суде. Батюшка, узнавши о его проказах, прислал за ним крытую кибитку, чтобы притащить свое чадо в Прилуки. Но Барончик объявил отцу, что не хочет заниматься такою презренною наукой, как политическая экономия, а желает ехать в Московский университет!
— А как поживает наш Николай Григорьевич?
— Инспектор Белоусов? Он теперь в Киеве. Служит. Хороший был человек, зазря его сукин сын Билевич съел!
Долго еще перебирали они своих однокашников и учителей, сидя за столом, попивая чай с булочками и кренделями. Гости уже собирались расходиться, когда Гоголь предложил прочесть из «Энеиды» Котляревского про «моторного парубка», расторопного хлопца Энея.
— Вот послушайте, як вин гарно пише про богов, як бы про нас:
Там лакоміни разны іли,
Буханчики пшеничні білі,
Кислиці, ягоди, коржі,
І всякі разні витребєнькі, —
Уже либонь були пьяненькі,
Понадувались, мов йоржі.
Был уже поздний час. В окно доносилась вечерняя сырость, из-за рваных, мохнатых облаков изредка проскальзывал месяц.
— До побачення! — сказал Данилевский, и все стали прощаться.
Оставшись один, Гоголь пошел в спальню, зажег свечу и сел перед комодом. Спать не хотелось: в голове еще шумели веселые шутки друзей, в ушах слышались любимые песни. Он достал из комода переплетенную в твердую обложку тетрадь. На первой странице было написано: «КНИГА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ ИЛИ ПОДРУЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» с пометой: «Начато в Нежине в 1826 году». В этой «энциклопедии» рукою Гоголя были переписаны украинские песни, «Вирша, говоренная гетману Потемкину запорожцами», отрывки из «Энеиды» Котляревского, пословицы и поговорки, народные предания и кушанья, описания крестьянских поверий, свадебного обряда. Гоголь внимательно перелистал книгу. В памяти возникли веселые комедии Котляревского, сценки из «Энеиды», пьесы отца, которые он видел на театре в Кибинцах.
Во всем этом чувствовалась жизнь, задорное кипение народного юмора, искренность подлинного чувства. И вдруг ему стало понятно, почему никто не хотел читать его «Ганца». Свои чувства он приписал там вымышленным, придуманным героям, да вдобавок помещенным в обстановку неизвестного даже ему самому немецкого быта. Его идиллия лишена была жизненной правды, она была надуманна, вычитана из книг.