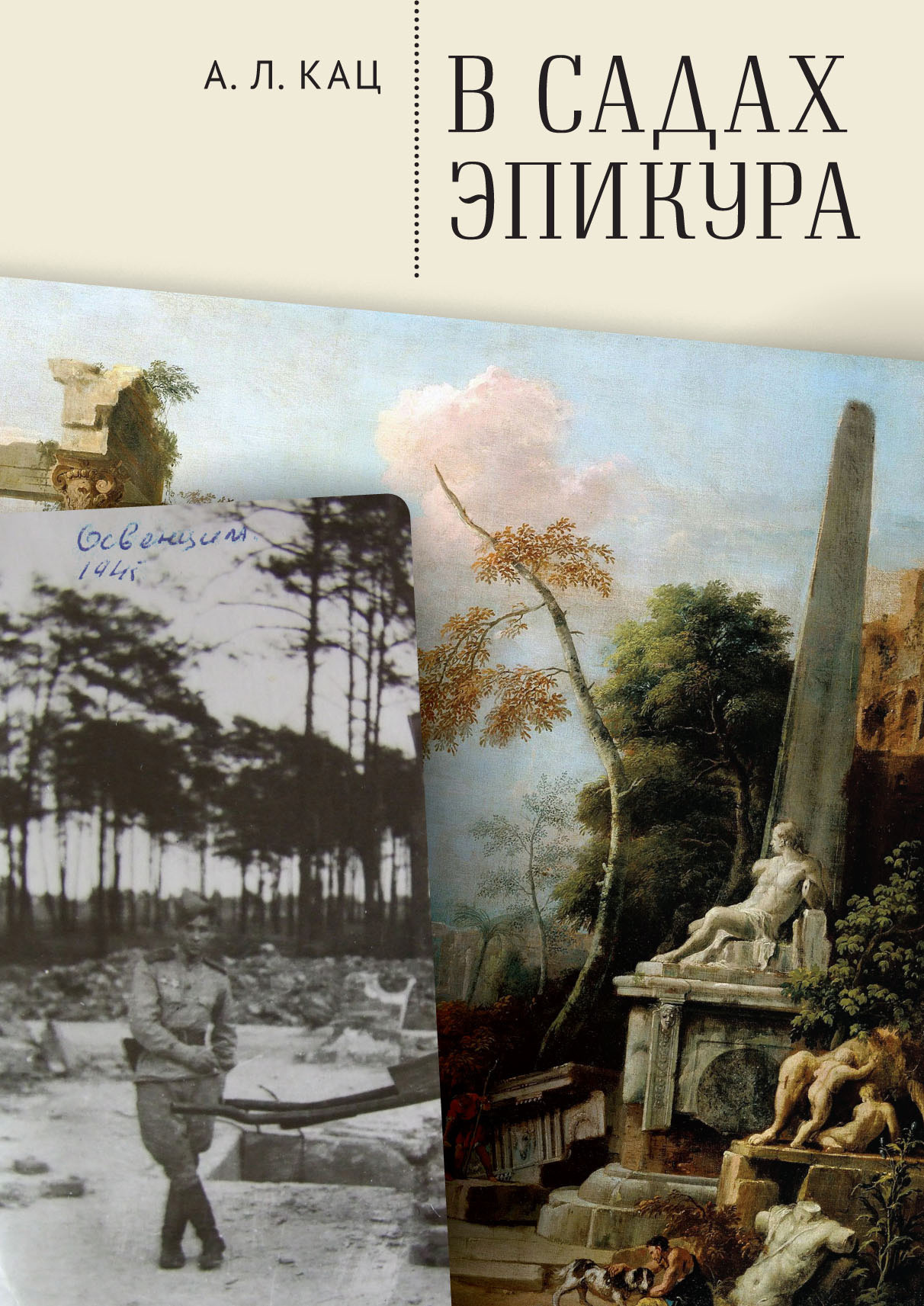это отступление от темы. К 11 декабря 1941 г. меня все-таки призвали в армию. Очень грешно в данном случае иронизировать. Но не могу не вспомнить дикторского текста из французского фильма «Фанфан-Тюльпан»: «Когда число убитых превысило число оставшихся в живых, тогда объявили новый набор». Я оказался в этом наборе.
Было очень морозно. Светило яркое и злое декабрьское солнце. Мать проводила меня до калитки, а дальше я направился один: не люблю проводов. Обернувшись, заметил, что у матери белые от инея ресницы. Она плакала, и казалось, что слезы замерзают. Это осталось в памяти у меня на вею жизнь. Чуть позже, в январе 1942 года, я записал:
Не забыть мне: громкий треск мороза,
Лед на сердце, горе, как зима.
На глазах твоих замерзли слезы,
Трудно было не сойти, с ума.
Дальше мое душевное состояние выражено так: рад, что тяжелая минута расставания меня не сломила:
Стало сила глянуть в жизнь смело
И сказать сурово: «Ты солдат!»
Трудное время пройдет и как-то все образуется:
Я не знаю, как там в жизни будет.
Но должны найти покой сердца.
Я не верю, чтоб страдали люди
И страданьям не было конца.
Каким бы примитивным это стихотворение ни показалось, оно свидетельствует, что в ту тяжелую минуту я уверенно перешагнул через рубеж отчаяния. Мне помогло в этом глубокое чувство преданности тем людям, которых я тогда любил. Я докажу это стихами, которые тем значительны, что писал я их для себя. Настроение, выраженное в стихотворении матери, так или иначе проявилось в том, что я писал Нине:
Я помню, как пушки во мраке ревели,
Как шли, покидая родныя края,
Усталые люди под вопли метели,
И с ними однажды ушел и я.
Зенитными вспышками и́скрилось небо.
Минувшая жизнь казалась сном,
И встречи нашей, как будто не было,
А вечно горела земля огнем…
Но я помнил и встречи и минувшее, столь дорогое мне:
И ветру шептал я: За этот вечер,
За радость, быть может, возможных встреч,
Я ношу любую взвалю на плечи,
И тяжесть любую скину с плеч…
Первые дни службы. Нас разместили в какой-то школе. В нетопленных классах стояли железные кровати. Спать мне на них не пришлось. Вечером мена направили дежурить на фабрику-кухню. Там кормили призывников, направлявшихся на фронт. На никелированных подносах я разносил пшенный суп и котлеты с пшенной кашей. Вначале боялся разлить, опрокинуть. Потом пожалел, что в отличном зале фабрики-кухни отсутствует джаз. Я мечтал разносить блюда из пшена под скорбные мелодии танго. Пришел с дежурства, сел на кровать. Тут разнесся слух, будто запасных второй категории, страдающих моим недугом, будут отправлять в строительные батальоны. Об этом говорили спокойно. Меня такое сообщение повергло в трепет. Разумеется, я не боялся строительных работ. Чем они могли удивить землекопа с противотанковых рвов? Возмущала несправедливость. Я отыскал политрука призывного пункта – человека со шпалой в петлице. Ему я сказал, что хочу быть направленным в общевойсковую часть, несмотря на то, что мой отец арестован в 1934 г. Он предложил мне написать соответствующее заявление и добавил: «Не беспокойтесь; конечно, я не могу вас направить в гвардейскую часть. Но в обычную часть, можно». Меня это удовлетворяло. В гвардейцы я не годился, хотя бы по росту.
И вот я, в составе довольно большой команды, погрузился ночью в померзшую теплушку и отправился в полковую школу в город Муром. В соответствии с незаконченным высшим образованием, мне надлежало учиться на младшего командира. В вагоне было тихо, люди молчали. Жаром дышала железная печурка, чуть светилась коптилка. Все курили, и махорочный дым застилал потолок. Кто-то спросил, есть ли у меня колбаса, и, узнав, что есть, предложил пустить ее на закуску к водке. Я согласился, мы выпили поллитра на двоих и съели колбасу. Потом я познакомился с соседом по нарам хрупким мужчиной интеллигентной внешности. Марк Юльевич Китаин – работник Мосфильма. Мы разговорились. Он был лет на десять старше меня. Да и все остальные мои спутники значительно превосходили меня в возрасте. Удивляться было нечему: 1922 год воевал с 22 июня. Не так уж много оставалось его в запасе, да еще и второй очереди.
Мы прибыли в Муром и расположились в большом сером здании Полковой школы 108 запасного стрелкового полка. Я сдружился с двумя людьми. Один – упомянутый М. Ю. Китаин, другой – коренастый, добродушный москвич Петя Амерханян, армянин лет тридцати, очень тосковавший по своим маленьким дочкам-близнецам. Военная служба оказалась делом нелегким. Но о трудностях смешных и грустных я расскажу чуть ниже. Сейчас главное: я с трудом преодолевал тоску по дому и грусть по Нине. Становилось немного легче, когда я вспоминал о возможной встрече. Но однажды в голове промелькнуло: «Откуда уверенность во встрече? Да ведь идет война! Каждый день жизни приближает меня не к встрече, а к смерти». И я реально представил себе, что никогда не вернусь домой. Это чувство мелькнуло и как-то сгладилось. Страшнее было другое: арест отца висел надо мной дамокловым мечом. Я воображал, что отношение ко мне определяется только этим фактом. Я пария, неприкасаемый… Направление меня в полковую школу я рассматривал, как недоразумение, недосмотр… Кто-то, думал я, невнимательно просмотрел личные дела. Я, конечно, не знал, что входил всего-навсего в списочный состав команды, что никаких личных дел никто за мной не вез и не заводил, потому что личностью я уже не был. О том, чтобы скрывать арест отца, мне не приходило даже в голову. Я был воспитан в мысли о том, что скрыть это просто невозможно. Те, кому следует, знают все. Поэтому даже заполнение списка, где стоял вопрос о месте жительства родителей, меня приводило в трепет. Я же не знал, что список составляется с учетом возможной гибели человека на войне и необходимости сообщить об этом семье. Правда, Китаин, которому я рассказал о своих тягостных мыслях, отрезал: «Не будьте дураком. Кому нужны сейчас ваши родители. Миллионы людей в армии. О каждом, по-вашему, наводят справки в органах?!» Это звучало логично. Но логика на меня воздействовала слабо. Сравнительно с этими мыслями, все остальное казалось мелочью.
Уходя из дома, я, конечно, был хорошо одет: зимнее пальто, ушанка,