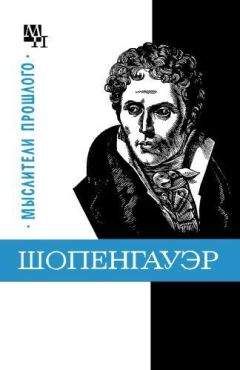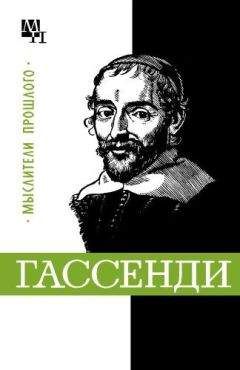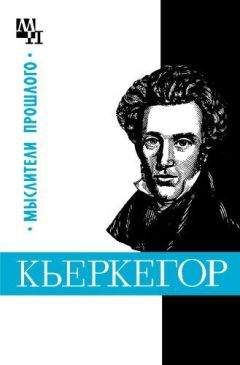Если это лишение неустранимо, непреодолимо, оно усугубляет страдание. Если оно преодолено, воля неизбежно порождает все новые и новые желания, а с ними и новые лишения и нескончаемую неудовлетворенность. Хотеть и стремиться, составляющие самое существо человека, подобны «неутолимой жажде», из-за чего все бытие его становится «несносным бременем». Жизнь его качается, подобно маятнику, взад и вперед, между лишением и желанием. «Таким образом, субъект хотения постоянно прикован к вертящемуся колесу Иксиона, постоянно черпает решетом Данаид, вечно томящийся Тантал» (6, 201). Он не знает ни счастья, ни покоя. «Гоняемся ли мы или избегаем, страшимся ли беды или стремимся к наслаждению — в сущности все равно: забота о постоянно требующей воле, все равно в каком виде, наполняет и постоянно волнует наше сознание, а без спокойствия никакое истинное благополучие невозможно» (там же). Каждая радость мимолетна, призрачна. К тому же «всякое обладание и всякое счастье дается случайностью лишь на неопределенное время и может быть отнято в следующий час» (там же, 91).
Хотения, жажда наслаждений и восторгов жизни, владеющие человеком, становятся, таким образом, источником его страданий. Держась за них, он не отдает себе отчета, что тем самым он хватает и крепко к себе прижимает все те страдания и муки жизни, перед которыми он содрогается. Он не видит того, что все его горести есть не что иное, как проявления его же воли к жизни, что даже осуществленное желание порождает пресыщение и скуку: «обладание отнимает прелесть» (6, 326). Достигнутое стремление обнаруживает свою ничтожность. Познается противоречие воли к жизни с самой собой, и, «чем сильнее воля, тем ярче явление ее противоречия: тем сильнее, следовательно, ее страдание» (там же, 414). Наслаждение таит в себе страдание. Страдание его порождает, страдание же его убивает. Именно потому, что жизнь насыщена волей к жизни, она полна страданием, она есть страдание. Стремление к счастью — родник несчастья.
Все жизнепонимание Шопенгауэра проникнуто глубочайшим пессимизмом. Мир — юдоль скорби и страдания — таков лейтмотив его философии. Все его сочинения представляют собой нескончаемые вариации на эту тему.
«Я бросаю вызов всякой философии с ее оптимизмом», — восклицает Шопенгауэр (5, II, 640). «Для меня оптимизм, если он только не бессмысленные речи тех, под плоскими лбами которых ничего не гостит, исключая слов, является не только нелепым, но также и истинно безнравственным образом мыслей, как горькая насмешка над несказанными страданиями человечества» (6, 339–340). Его учение — прямая противоположность «оптимистическому догматизму», «ложному, плоскому и пагубному оптимизму».
«Кричали, что моя философия меланхолична и безотрадна», — пишет Шопенгауэр. И действительно, для Шопенгауэра является неоспоримым, что человеческая жизнь «по всему своему строю неспособна ни к какому истинному счастью, а в существе есть только многообразное страдание и насквозь горестное состояние» (6, 337). Убеждение в том, что мы живем для того, чтобы быть счастливыми, — омрачающее ум прирожденное заблуждение. Человеческая судьба есть «лишение, горе, плач, мука и смерть» (там же, 367).
Безудержный пессимизм, утверждающий, что «вполне счастливыми не может сделать нас ничто на свете», влечет за собой осуждение самой воли к жизни: «Поэтому столь часто оплакиваемая краткость жизни, быть может, именно самое в ней лучшее» (там же, 338). Осознание этого — величайшее достижение глубокомыслия. Кто вполне проникся его философским учением, тот понял, что «наше бытие таково, что лучше бы его совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в отказе от него» (8, 119). «Все наши стремления, борьба и хлопоты ничего не стоят… все наши блага ничтожны», — гласит один из его афоризмов в главе «О ничтожестве и страданиях жизни» (7, II, 230). Формула Теренция: «Я человек и ничто человеческое мне не чуждо» — звучит в устах Шопенгауэра так: «Я человек и страдание для меня неизбежно». Homo sapiens превращается в homo miser — «страждущее существо».
Заключительный, четвертый, раздел основного труда Шопенгауэра — четвертый акт его трагедии — озаглавлен: «…При достигнутом самопознании подтверждение и отрицание желания (воли) жизни». Воля к жизни «разыгрывает великую трагедию и комедию на свой счет» (6, 374). Трагедию разыгрывают те, кто осознал ее сущность, комедию — те, кто гонится за счастьем, кто одержим волей к жизни. «Жизнь всякого отдельного человека… собственно, всегда трагедия; но разобранная в частности, она имеет характер комедии» (6, 335). «Откуда же иначе Данте взял материал для своего Ада, как не из нашего действительного мира?» (6, 338) Своей исторической заслугой Шопенгауэр считает, что он, вместо того чтобы изображать карающий грешников некий будущий ад, показал, что всюду в мире «находится уже и нечто подобное аду» (5, II, 603). Этот мир еще ужаснее Дантова ада, ибо в нем каждый человек, гоняющийся за своим счастьем, «должен быть дьяволом для другого». В конце концов «дьявол» не что иное, как «персонифицированная воля к жизни».
Для Шопенгауэра нескончаемые рассуждения философов о цели и смысле жизни — пустая болтовня. Формула Канта: «Существовать как цель сама по себе», по мнению Шопенгауэра, — бессмыслица. «Всякая цель бывает целью лишь по отношению к воле… Быть целью — значит быть объектом желания» (5, IV, 163). А что есть воля, объективизацию которой составляет человеческая жизнь, как не «стремление без цели и без конца» (6, 334)? На всех ступенях своего проявления, по уверению Шопенгауэра, воля лишена конечной цели, так как единственная ее сущность — стремление, коему никакая достигнутая цель не полагает конца (там же, 321). Все хлопочут, суетятся, чего-то добиваются, к чему-то стремятся, но где же конечная цель всего этого, в чем она? Чего ради, «зачем происходит вся эта трагикомедия — этого решительно нельзя понять» (5, II, 365–366). Люди «подобны часовым механизмам, которые заводятся и идут, не зная зачем» (6, 335). Подобные медитации, сетования на бесцельность и бессмысленность человеческого существования, заунывные, пессимистические, меланхолические мотивы непрестанно сопровождают читателя сочинений Шопенгауэра, навевая уныние, тоску и безнадежность. «Оптимизм, — всячески старается он внедрить в сознание читателя, — это в сущности незаконное самовосхваление истинного родоначальника мира, т. е. воли к жизни… Гораздо правильнее было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях, нужде и скорбях, венчаемых смертью…» (5, II, 607). При всей своей неубедительности и несостоятельности Кант все же «имеет перед этикой ту великую заслугу, что он очистил ее от всякого эвдемонизма» (5, IV, 126). В этом, и только в этом, негативном смысле Шопенгауэр продолжил начинание Канта.