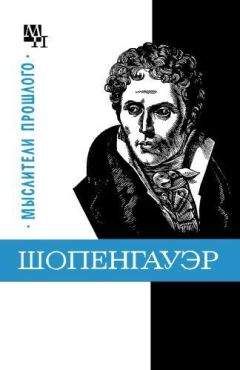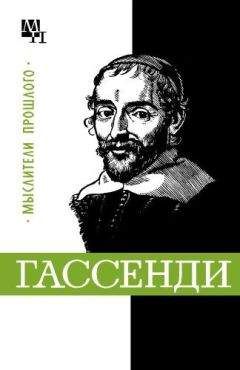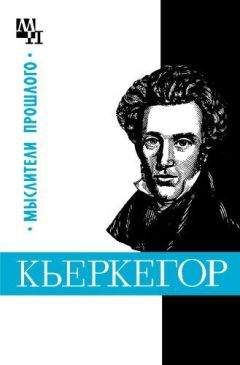Он не довольствуется анафемой эвдемонизму. Для него совершенно неприемлема и стоическая этика, цель которой — стремление к жизни возможно более свободной от страданий и оттого возможно более счастливой. «Диететика духа», как называет Шопенгауэр стоическую «атараксию», является, по его мнению, «только особым видом эвдемонизма», поскольку она верит в возможность счастливой жизни, достижимой посредством «закаленности и нечувствительности к ударам судьбы» (5, II, 153). Стоики внушают надежду, будто при разумной жизни возможна блаженная, счастливая жизнь. Но при всех своих благих намерениях стоический мудрец «оставался деревянным, неуклюжим манекеном… который сам не знает, куда деваться со своей мудростью, которого полное спокойствие, довольство, блаженство прямо противоречит человеческому существу…» (6, 94).
Убеждая своих читателей в несостоятельности и беспочвенности как ригористической, так и эвдемонистической и стоической этики, внушая им, что ни долг, ни счастье, ни равнодушие не могут служить основанием разумной жизни, Шопенгауэр противопоставляет всем предшествующим этическим учениям иные, по его убеждению единственно истинные, нравственные принципы.
Первый из них — резигнация, самоотрицание, самоотвержение воли к жизни; когда «воля отворачивается от жизни, ей делается страшно ее наслаждений… Человек достигает состояния добровольного отречения, резигнации, истинного спокойствия и полного безжелания» (6, 397). Человек осознает, что «воля к жизни — истинное проклятие» (5, IV, 319). Его познание обнажает перед ним «ничтожество всяческого хотения и стремления и вследствие этого воля сама себя отменяет и упраздняет…» (7, II, 48). Возвысившись до этой точки, познание унимает и отменяет всякое хотение, аннулирует все желания. Любой мотив сменяется квиетивом, отречением от всех желаний, освобождением от назойливого напора, от ярма воли. Резигнация останавливает «колесо Иксиона» (6, 202). Квиетизм — это «летаргия воли» (там же, 334), отравляющей человеческое существование. Он дается не легко, а достигается путем непрестанной борьбы с вожделениями, в силу чего «постоянным покоем никто на земле пользоваться не может» (там же, 410). Зато того, кто одолевает волю, «ничто уже не может заботить, ничто не может волновать, ибо он обрезал все те тысячи нитей хотения, которые связывают нас с миром и в виде алчности, страха, зависти и гнева влекут нас, постоянно заставляя страдать» (там же, 409). Воля к жизни — источник бесконечных страданий, ее отрицание — единственное спасение, избавление от страданий. Счастье не только утопично, иллюзорно, но погоня за ним — источник всех пороков; резигнация как конечная цель не только спасает от страданий, но в ней и «глубочайшая сущность всякой добродетели» (там же, 157).
Прежде всего она избавляет от эгоизма, несовместимого с моралью, являющейся «совершенной противоположностью естественной воли, которая сама по себе безусловно эгоистична» (5, II, 214). Если «эгоизм и добродетель никогда не подадут друг другу руки» (там же, 508), то квиетизм, раскрепощая нас от эгоизма, — родной брат добродетели. Главная задача всякой этики — «противопоставить этому эгоизму, и злобе вдобавок, равносильного и даже более сильного противника». Вот где «Hic Rhodus, hic salta!» (здесь Родос, здесь и прыгай) учения о нравственности (5, IV, 161). И Шопенгауэр со всей решительностью совершает этот прыжок — от «salto vitale» к «salto mortale», от жизнеутверждения к жизнеотрицанию, от воли к жизни к воле к смерти как нравственному идеалу. Волюнтаризм приобретает негативный характер.
Моральное преодоление Шопенгауэром эгоизма выразительно демонстрирует неразрывную связь его этики с его метафизикой. Основываясь на своем признании всего единичного, индивидуального, преходящего явлением, обусловленным пространственно-временной формой представления, он относит к миру явлений и эгоизм, культивирующий личность, непричастную подобно всем явлениям к миру вещей в себе. Моральная дискриминация эгоизма опирается в его этике на метафизическое истолкование им принципа индивидуации. «…Индивидуум — только явление, существует лишь для познания, заключенного в законе основания в principio individuationis» (6, 285). Лишь, как явление он отличается от других индивидуумов. Воля всюду является во множестве индивидуумов, «но это множество касается не ее, не воли как вещи самой в себе, а только ее явлений» (там же, 345). Эгоизм произрастает из индивидуализма. «Каждый в безграничном мире совершенно исчезающий и до ничтожества умаленный индивидуум тем не менее соделывает себя средоточием мира, свое собственное существование и благополучие предпочитает всему другому…» (там же, 346). Не осознав своего ничтожества, он желает всего для себя, желает всем владеть, над всем властвовать и все, что ему противится, хотел бы уничтожить.
«Заблуждение эгоизма, — по словам Шопенгауэра, — состоит в том, что мы взаимно признаем друг в друге не-Я» (7, II, 273). Личность оказывается неспособной себя «дешифровать» как явление, не постигает того, что разница между собственной и чужой личностью лишь порождение субъективно определенного опыта, что «это своего рода ошибка, недосмотр» (5, II, 507).
Преодоление эгоизма требует осознания метафизической тождественности воли как вещи в себе при бесчисленном множестве ее проявлений. Индивидуализм держит волю в заблуждении относительно ее собственного существа. Избавление от эгоизма требует от человека, чтобы «призрак принципа индивидуации его покинул», чтобы он исцелился от «призрака и наваждения Майи», чтобы для него «покров Майи стал призрачным» (6, 390) и он узрел, что «индивидуум — это ничто» (7, II, 272).
Резигнация и дезиндивидуализация смыкаются в жизнеотрицающей этике Шопенгауэра воедино. Если воля к жизни — химера, а личность — ничтожество, то что же остается прозревшему человеку, кроме умерщвления собственной воли, аскетизма, самоотречения?
Может быть, самоубийство является правильным решением основного вопроса этики? Нет, решительно возражает Шопенгауэр, это — очередное индивидуалистическое заблуждение. Самоубийство, гласит одна из его максим, — «совершенно бесцельный и бессмысленный поступок» (7, II, 12), акт напрасный и безумный, который при здравом размышлении предстает перед нами в самом неблагоприятном свете. Ведь самоубийца не потому перестает жить, что перестает хотеть. Самоубийство не имеет ничего общего с отрицанием воли к жизни. Напротив, оно лишь подтверждает ее. «Воля к жизни проявляется в такой же мере в желании смерти, выражение которой представляет собою самоубийство» (5, IV, 455). Ибо отрицание воли заключается вовсе не в том, чтобы избегать страданий, в неудовлетворенности жизнью, а в том, чтобы презирать наслаждение жизнью. «Самоубийца именно потому и перестает жить, что не может перестать хотеть» (7, II, 13). Он неспособен к квиетиву. Для того чтобы перестать хотеть и избежать страдания, он вынуждает себя перестать жить. Таким образом, не будучи нимало отрицанием воли, оно (самоубийство) «есть, напротив, феномен сильного подтверждения воли» (6, 417). Оно не свидетельствует о просветлении благодаря проникновению за призрачный покров Майи, а есть «торжество искусства Майи, как вопиющее выражение противоречия воли к жизни с самой собою» (там же, 418).