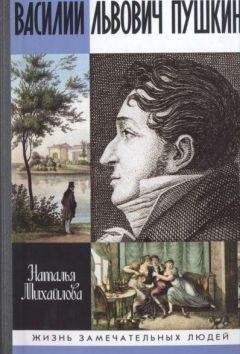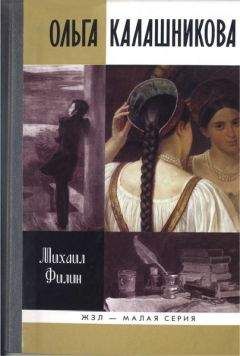А накануне кончины Марии Алексеевны в сельцо приехали C. Л. и Н. О. Пушкины с дочерью Ольгой — они успели повидаться с умиравшей. Василий Львович Пушкин сообщал 2 августа князю П. А. Вяземскому в Варшаву: «Надежда Осиповна и Оленька в большом огорчении. Покойница была со всячинкой, и мне её вовсе не жаль, но здоровье Оленьки очень худо, и я о том сокрушаюсь. Александр остался в Петербурге; теперь, узнав о кончине бабушки своей, он, может быть, поедет к отцу»[209].
Девятнадцатилетний Александр Пушкин, ведший жизнь весьма беспорядочную, «рассеянную», тогда так и не выбрался в сельцо Михайловское. «Удовольствия столичной жизни» (П. В. Анненков), поэтические и прочие дела увлекли его. «С ненасытностью африканской природы своей предавался он пылу страстей»[210], а потом поэт опасно и надолго заболел. Только к лету 1819 года ему стало лучше, и в начале июля, испросив в Коллегии иностранных дел отпуск «на 28 дней», Пушкин уехал вслед за семейством в Псковскую губернию — как выразился его дядюшка, «очиститься в деревне от городских грехов, которых он, сказывают, накопил множество»[211].
Но не успел Александр преклонить колена у святогорской могилы Марии Алексеевны Ганнибал, как тут же всем Пушкиным пришлось встать возле свежего холмика: умер их маленький сын и брат Платон.
Арине Родионовне Матвеевой, выпестовавшей троих «пушкинят», так и не было суждено заиметь на старости лет четвёртого.
В самом начале второй декады августа Пушкин, проведя в сельце ровно месяц и кое-что там сочинив («Деревню», пятую песнь «Руслана и Людмилы», etc.), покинул печальное Михайловское. Никаких конкретных сведений о его общении с няней нет. Конечно, она тревожилась за здоровье юноши, который явился в деревню бледным, похудевшим и обритым, в парике, и почему-то с необычайно длинными ногтями. Ясно и то, что их расставание было грустным. Может быть, и поэт, и Арина Родионовна предчувствовали, что разлука вновь окажется продолжительной.
Вернувшись в Петербург, Александр Пушкин продолжил повесничать, заполнял между картами, дамами полусвета и дуэлями свою «красную тетрадь» (Н. А. Маркевич), упрямо дразнил полицию и правительство шумными выходками в публичных местах. Кроме того, в обществе обсуждали (и осуждали) его «антидеспотические» высказывания, а по рукам ходили пушкинские стихи весьма сомнительного политического свойства.
До поры до времени власти терпели эти «шалости», но уже в апреле 1820 года случилась беда: о поведении молодого дипломатического чиновника доложили императору Александру Павловичу.
Государь был рассержен и склонялся к тому, чтобы наказать «беспутную голову» самым строгим образом: «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь их читает»[212]. Однако благодаря заступничеству ряда влиятельных персон (таких, как H. М. Карамзин или директор Лицея Е. А. Энгельгардт) гроза всё-таки миновала. Как сообщил вскоре А. И. Тургенев князю П. А. Вяземскому в Варшаву, с проштрафившимся поэтом поступили по-царски «в хорошем смысле этого слова»[213]. Коллежский секретарь Пушкин был «в целях воспитания» переведён по службе в полуденные земли империи, под начало главного попечителя колонистов южного края России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова, добрейшего старика.
Высочайшее распоряжение на этот счёт воспоследовало 4 мая 1820 года — и спустя два дня Александр Пушкин, именованный в официальных бумагах «курьером», покинул Петербург.
Осень и зима принесли в семейство Пушкиных новые неприятности.
На сей раз отличился Лёвушка, который вместе с некоторыми другими воспитанниками Благородного пансиона слишком бурно протестовал против удаления их любимого учителя и гувернёра В. К. Кюхельбекера (лицейского товарища Александра Пушкина). Пансионеры не только отказывались слушать преемника Кюхли и гасили свечи на лекциях, но заодно и «побили одного из учителей»[214] или надзирателей, причём Л. С. Пушкин был в числе инициаторов скандального рукоприкладства. 26 февраля 1821 года брата поэта исключили из третьего класса пансиона.
Шестнадцатилетний барич опять оказался не у дел — однако идти в службу не торопился. По утверждению С. А. Соболевского, Лев Сергеевич иногда промышлял тем, что «ходил из дома в дом, читая наизусть какие-нибудь новые стихи брата. За это он вознаграждал себя хорошими ужинами, к которым его приглашали»[215]. «Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим…» — признавался Александр Пушкин барону А. А. Дельвигу в письме от 23 марта из Кишинёва (XIII, 26).
Волновалась и Арина Родионовна, которая с 1821 года жила в Петербурге у Пушкиных, в доме А. Ф. Клокачёва (она упомянута среди пушкинской дворни в исповедной книге храма у Покрова в Коломне[216]). Старушке было от чего сокрушаться: судьба явно не благоволила к её питомцам. И то сказать: Оленьке шёл двадцать четвёртый год, а она всё томилась в светлице и никак не могла найти своего князя[217]; Лев рос каким-то забубённым, зряшным; об Александре же няне и вовсе думалось со страхом: уже другой царь невзлюбил «ангела». И если первый властитель, давнишний, лишь попенял за картуз да потопал августейшими ножками, то нынешний осерчал куда шибче: вон в какую даль спровадил безобидного юнца.
Что-то ждёт его, незадачливого, впереди?
Какие-то сведения о Пушкине до Арины Родионовны доходили. Александр, «огорчая отца язвительным от него отступничеством»[218], иногда писал братцу и сестрице, иногда петербургским знакомым — от них удавалось поживиться новостями и нянюшке. В дом Надежды Осиповны и Сергея Львовича на Фонтанке порою наведывались и приезжавшие с Юга путешественники. Они передавали приветы, поклоны и рассказывали про пушкинские будни и праздники в Екатеринославе, Кишинёве, Одессе, в иных городах и усадьбах.
В таких сообщениях было немало радостного для старухи, но мелькало и тревожное: поэт чуть поумнел, малость остепенился, однако по-прежнему вёл себя неосторожно, погуливал, сочинял всяческую чепуху, ссорился с окружающими, ставил жизнь на карту. Кто-то видел его обритым, другой — с длинными курчавыми волосами и «ногтями длиннее ногтей китайских учёных» (А. Ф. Вельтман); все в один голос повторяли, что он «находится в очень стеснённых обстоятельствах» (В. Ф. Вяземская), а иные, с умыслом или по недоразумению, даже распускали слухи о смерти Александра Пушкина. Однако такие зловещие сплетни, к счастью, быстро опровергались.