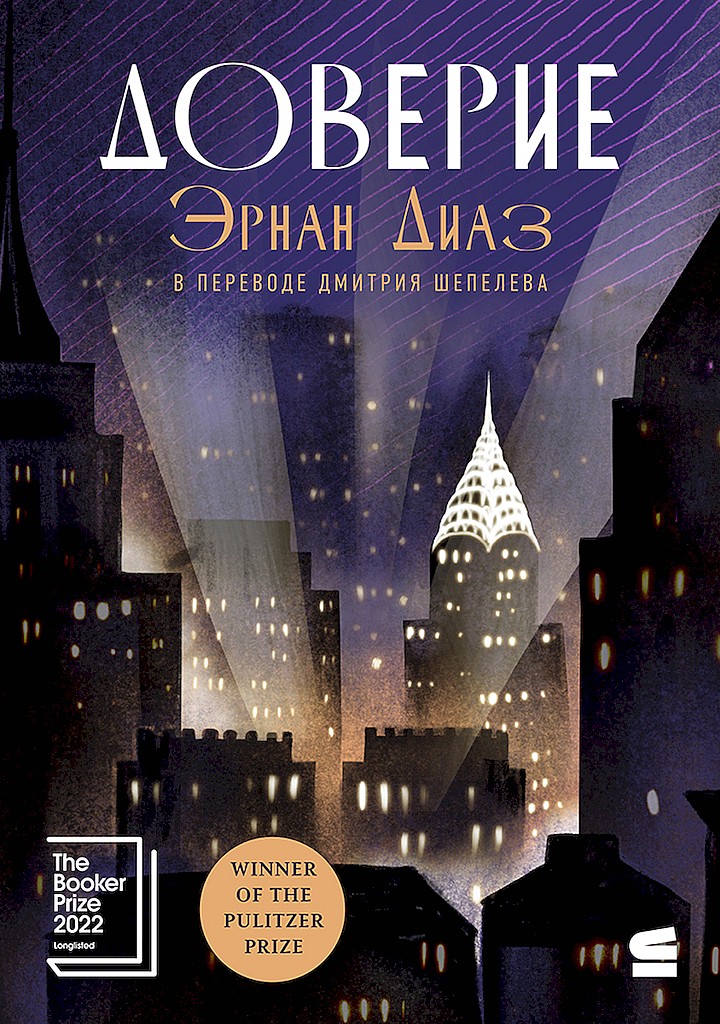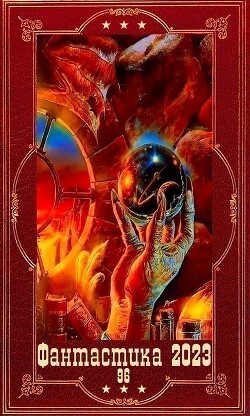коридору к палате Хелен, удивляясь, что его ноги шагают по полу, а рука поворачивает дверную ручку.
Медсестры застыли. Он подошел к кровати. Они отступили.
Он поднял простыню так бережно, словно очищал кожицу с нежного фрукта. В лице Хелен не было ни намека на покой. Его искажала боль. Как и все ее тело. Бенджамин отшатнулся, пытаясь исправить ее образ у себя в уме.
Кто-то сказал о ее ключице. Он обернулся. Это была американская медсестра, та самая, которая вышла на крыльцо в слезах после прошлой процедуры. Она сказала, что судороги миссис Раск были так сильны, что она сломала ключицу.
◆
К ТОМУ ВРЕМЕНИ, КАК БЕНДЖАМИН ВЕРНУЛСЯ в Нью-Йорк, было уже слишком поздно для соболезнований, открыток и поминальных служб. Мало кто осмеливался обращаться к нему; меньше было тех, кто отваживался что-то советовать. Те же, кому хватало на это храбрости, говорили, что ему надо продать дом — этот дом полон воспоминаний, и никто не может жить в таком месте, где повсюду витают призраки прошлого, какими бы добрыми и любящими они ни были. Бенджамин на это ничего не отвечал. Все комнаты оставались нетронутыми. Не как в музее. И не так, словно он ожидал, помешавшись от горя, что там случится нечто чудесное. Он почти не выходил за пределы своих комнат и кабинета. Остальные помещения были нужны ему просто потому, что без них вселенная стала бы беднее. Он не мог лишить вселенную комнат Хелен.
Сам дом, однако, не занимал заметного места в мыслях Бенджамина. Если что-то и отражало его горе, так это удвоенный пыл, с каким он погрузился в работу. Он попытался провести одно из своих неприметных, но решительных вмешательств в рынок и сосредоточился в первую очередь на валютных манипуляциях. В соответствии с Чрезвычайным законом о банках Федеральная резервная система выпустила большие объемы денег, чтобы удовлетворить вероятные требования после наплывов на банки 1933 года. Почти одновременно правительство приостановило действие золотого стандарта, позволив доллару свободно перемещаться на внешних рынках. Используя свои огромные запасы золота по всему миру (и предвидя указы президента, регулирующие его продажу), Раск сделал сильную ставку против доллара, предполагая, что в результате эмиссии правительством огромного количества валюты ее стоимость обесценится. Он вложил значительные средства в фунт стерлингов, рейхсмарку и другие валюты, вплоть до иены. В первый момент рынки отреагировали на его вмешательство. Но со временем комплекс мер государственной политики благоприятно сказался на экономике, и прибыль Бенджамина оказалась незначительной. Он также решил, что Новый курс [16] обречен на провал и что Уолл-стрит пострадает от ряда нормативных актов, обусловленных Законом о ценных бумагах. Следуя этой интуиции, он решил повторить свою игру 1929 года и выставить короткие позиции в массовом масштабе. Еще не завершив этот маневр, он вынужден был признать, что просчитался. Рынок хорошо реагировал на действия правительства, и Бенджамину пришлось отступить. Его денежный убыток был не так велик, как урон, нанесенный его репутации. Люди на Уолл-стрит говорили, что его валютные спекуляции с самого начала были обречены и что его неудавшийся переворот на фондовом рынке, имитировавший его прежний успех, показал, что у него в рукаве была припрятана только одна потрепанная карта. Общественность в целом — или, по крайней мере, средний читатель финансовых страниц в газетах — была возмущена, увидев, что мистер Раск играет против восстановления страны.
Все это время миссис Бревурт фонтанировала горем, используя все социально приемлемые проявления траура. Она обнаружила неожиданный блеск в глубочайших оттенках черного и постаралась окружить себя особенно жалостливыми знакомыми с глазами на мокром месте, подчеркивавшими ее надменную скорбь, которую она именовала «благородной». Не исключено, что под этим несколько фарсовым спектаклем, рассчитанным на ее ближний круг, она испытывала неподдельную боль. Некоторые люди в определенных обстоятельствах пытаются скрыть свои чувства, чрезмерно раздувая их, и не понимают, что их нелепая карикатура в полной мере раскрывает все то, что была призвана завуалировать.
Как только Бенджамин вернулся, она что ни день стала бывать у него, даже если его не было дома. Она отдавала распоряжения по хозяйству, терроризировала прислугу и всем давала понять, что с ней надо считаться. Бенджамин, однако, был погружен в работу, оставлял проделки миссис Бревурт без внимания и редко виделся с ней. Но всякий раз, как ей удавалось втянуть его в разговор, миссис Бревурт прозрачно намекала, что могла бы переехать к нему — только родной Хелен человек сможет обеспечить Бенджамину комфорт и составить компанию, кто-то, кто не только знал ее, но и понимал его. Бенджамин оставался глух к этим намекам. Довольно скоро миссис Бревурт признала тщетность своих усилий и оставила его в покое, после чего их отношения стали ограничиваться счетами, которые она продолжала отправлять на адрес его конторы.
Со временем Бенджамину пришлось признать ужасающий факт: смерть Хелен никак не сказалась на его жизни. Ничто, по существу, не изменилось, кроме одного обстоятельства. Его траур стал всего лишь возведенной в абсолют моделью его супружества: и то и другое представляло собой извращенное сочетание любви и отстраненности. При жизни Хелен он был не в силах преодолеть разделявшую их пропасть. Но это не вызывало у него возмущения, а только побуждало искать все новые пути. Теперь же, пусть даже его любовь осталась прежней, пропасть между ними стала абсолютной.
Он продолжал спонсировать благотворительные фонды Хелен и регулярно отчислять пожертвования оркестрам, библиотекам и художественным объединениям. Благодаря пожертвованиям и стипендиям ее имя стало синонимом совершенства — для любого композитора или писателя быть «достойным Хелен» стало знаком чести, и это чрезвычайно льстило Бенджамину. Однако он свернул работу ее фондов в области исследований новых методов психиатрии. С этим миром он больше не хотел иметь ничего общего. И хотя он в итоге отказался от идеи выкупить «Фармацевтику Хабера», он оставил себе акции компании — его чувства и прежде никогда не влияли на его деловые решения, и этот случай не стал исключением. Несмотря на провал доктора Афтуса, Бенджамин по-прежнему считал «Хабер» прибыльным предприятием, и оно действительно приносило устойчивый и впечатляющий доход. Судорожная терапия проложила путь к тому, что через несколько лет получит известность как электросудорожная терапия. Но к тому времени Бенджамин полностью вывел «Хабер» из фармацевтики (и отказался от этого слова в названии своего бренда), чтобы сосредоточиться на промышленной химии и получении государственных контрактов в разных странах.
Даже если бы Бенджамин довольствовался консервативным управлением своими активами, его состояние все равно было бы сопоставимо с экономикой небольшой страны.