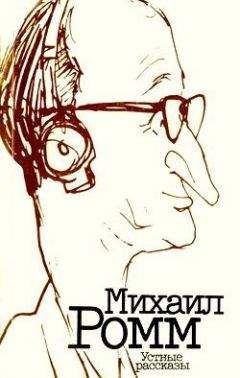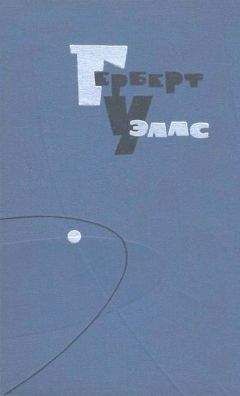Но… Как вы сейчас увидите, и Эйзенштейн вносил.
Вот, примерно, на этом заседании, по поводу «Сильвы», и было. Пришла картина «Аршин мал алан». И поручено было комиссии ознакомиться предварительно с картиной. А в комиссию вошли оба генерала, Эйзенштейн, кто-то еще, Пудовкин, наверное, Пудовкин, да, кажется, Юткевич. Кто-то из операторов, может быть, покойник Тиссэ, а председателем комиссии назначили меня. И предложено нам было посмотреть «Аршин мал алан» и к следующему заседанию доложить.
Ну-с, собрались мы вечером, показали нам картину. Картина, естественно, довольно плохая. Потом пошли наверх, в маленькую комнатку, обсуждать. Ну, я говорю:
– Что, товарищи, не будем мы тратить время на эту ерунду, в общем, сейчас не будем сидеть, обсуждать, говорить. Доверьтесь мне. Я, так сказать, доложу, что картина посредственная. Запрещать ее не за что, восторгаться нечем, радости никакой от нее нету. Плохая картина, но, вероятно, выйдет на экран, пусть себе выходит.
Все как будто бы со мной согласились, но Сергей Михайлович говорит:
– Нет, я не согласен. Это субъективная точка зрения. Это вкусовщина, Михаил Ильич, – говорит и посмеивается.
Я говорю:
– Ну, что, неужели вам понравилась картина?
Он говорит:
– А как же так? Разве можно так судить: понравилась – не понравилась; мы – ответственная комиссия, ответственней худсовета. Мы должны подходить к картине, так сказать, объективно и с научными критериями.
Я говорю:
– С какими научными критериями подходить к этой картине?
Сергей Михайлович говорит:
– А есть только один критерий: мы должны определить, есть ли в этой картине стилевой замысел, есть ли в ней единство стиля, и в выполнении этого замысла был ли художник последовательным. Если мы обнаружим в картине стилевое единство, очевидно, это явление искусства. А плохое оно или хорошее, об этом судить надо позже, через много лет. А сейчас мы судить права не имеем.
Я смотрю на Сергея Михайловича, говорю:
– Вы что, серьезно?!
Он говорит:
– Серьезно.
Я говорю:
– Ну, если серьезно, то, простите меня, какой же единый стиль вы находите в этой картине?
Он говорит:
– А я вам сейчас определю. Я нахожу в этой картине строго проведенную линию и единое стилевое решение. Это стиль, с вашего разрешения, парижской порнографической открытки в бакинском издании. Вот так. Правда, в бакинском издании. Но ведь это национальное искусство, естественно, что издание бакинское, – он говорит. – И я вам могу это доказать. Единственный недостаток, который я нахожу в этой картине, это то, что в ней наблюдается излишество в костюмах. Представьте себе на секунду, Михаил Ильич, что мы снимем со всех героев и с героини в основном – с основных действующих лиц – штаны и вообще нижнюю часть одежды, – вот, что получится?
Берет стопку бумаги, которая положена для комиссии, и начинает молниеносно, на память, рисовать кадр за кадром «Аршин мал алана», но без штанов. Причем рисует такую дикую похабель. Совершенно те же композиции, которые мы видели в картине, но только они превратились во что-то невероятное. Причем так как герой ходит в смокинге, в галстуке бабочкой и в барашковой шапке, то без штанов это производит невероятное впечатление. Рисует эти волосатые ноги и что выделывает этот герой.
Мы сидим, мы умираем со смеху буквально.
Нарисовал от так штук пятнадцать-двадцать отдельных кадров, быстрых таких «кроков», «эссе», – кто разобрал их на память, кто как.
Я говорю:
– Ну ладно, посмеялись, спасибо, все хорошо. Итак, разрешите, я завтра доложу, что картина неважная.
Он говорит:
– Позвольте, я же вам доказал, напротив того, что картина эта – серьезное явление искусства, повторяю, что в этом стиле – бакинской порнографической открытки – это, в общем, новое явление. Это почти открытие.
Я говорю:
– Сергей Михайлович, ну довольно шутить, одиннадцатый час.
Он говорит:
– Нет, уж раз так, раз мы уполномочены вынести ответственное решение, тогда я остаюсь при особом мнении, прошу записать его в протокол.
Ну, я, естественно, в протокол его особое мнение записывать не стал. Мы разошлись, посмеиваясь. Ну, а дня через три собрался Большой худсовет в присутствии, так сказать, наблюдателей ответственных и т. д. и т. д. Я докладываю: так, мол, и так, комиссия пришла к такому-то выводу. Ну, и говорю все это.
И вдруг, когда я кончил, Эйзенштейн говорит:
– А где мое особое мнение?
Я говорю:
– Какое особое мнение?
– Простите, Михаил Ильич, я просил записать мое особое мнение, а вы почему-то его не записали и не докладываете. Это нехорошо, нехорошо.
Большаков насторожился и говорит:
– Какое особое мнение?
– Да вот, – говорит Эйзенштейн, – у меня было особое мнение. Я не согласился с председателем комиссии, я высоко оценил картину, и я просил бы Михаила Ильича это особое мнение доложить.
Большаков говорит:
– Вот, знаете, мне ведь тоже понравилась картина, что же вы, Михаил Ильич, что ж вы не докладываете? Докладывайте уж.
Тогда я говорю:
– Нет уж, пусть тогда Сергей Михайлович докладывает свое особое мнение.
Смотрю, все члены комиссии на своих местах начинают ерзать. Такое впечатление, что генералы сейчас под стулья полезут. Ну, а Сергей Михайлович встает и, нисколько не смущаясь, начинает излагать свое особое мнение:
– Видите ли, Михаил Ильич априорно и очень пристрастно, вкусово отнесся к картине. Я сказал, что единственным признаком искусства является стилевое единство. Я нашел в этой картине стилевое единство и, хотя у меня было мало времени, точно, по моему мнению, определил стиль этой картины. Ну, здесь не место и не время излагать какие-то теоретические глубокие домыслы, я не буду характеризовать этот стиль, но я дал комиссии характеристику, даже нарисовал в доказательство ряд эскизов, «кроков», кадров; комиссия со мною согласилась. Во всяком случае, я не слышал никаких возражений, а почему-то вот здесь не доложено мое особое мнение. Я протестую.
Говорит он совершенно серьезно. Я не знаю, что и делать. Вот, я думаю, что сейчас, сейчас он что-нибудь брякнет, будет скандал.
Однако Большаков ничего не понимает. Все слушают этот спор с недоумением.
Большаков говорит:
– Знаете, я тоже согласен с Сергей Михайловичем, стиль есть, стиль есть, есть стиль. Почему же вы так, Михаил Ильич?
И Сергей Михайлович продолжает между тем:
– Я, правда, Иван Григорьевич, нашел недочет в картине. Я считаю, что в ней есть определенное излишество в костюмах.
Большаков говорит:
– Я говорил, я это говорил, еще когда смета утверждалась, что есть излишества в костюмах. Вот видите, товарищи, – обращается он к авторам картины, – и Сергей Михайлович Эйзенштейн поддерживает меня, что есть излишества в костюмах. В костюмах излишества – вот так. И большое излишество вы нашли?