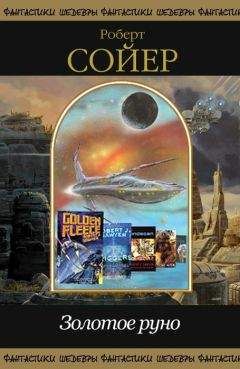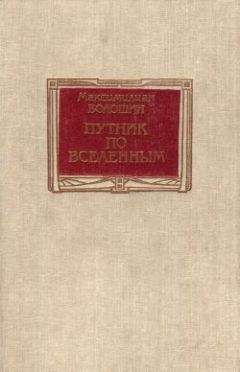Строгий реализм и жажда по точности были надежными руководителями Сурикова в области формы. Недаром он гордился тем, что еще в детстве был «пленэристом», — писал Красноярск с горы акварелью, а юродивого заставлял позировать на снегу босиком и в одной рубахе. При этом он прибавлял с энергией:
«Если бы я ад писал, то в огне позировать заставлял бы, и сам в огне сидел».
Из русских мастеров он особенно ценил Александра Иванова.
«Иванов — это прямое продолжение школы дорафаэлистов, усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину! Только у Шардена это же есть. Но у него скрыта работа в картинах, а у Иванова она вся на виду».
Для собственного своего художественного опыта он находил выражения такие же четкие и своеобразные:
«Надо время, — говорил он, — чтобы картина утряслась так, чтобы в ней ничего переменить нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона — и та имеет значение. Важно в композиции найти замок, чтобы все части соединить в одно, — математика. А потом проверять надо: поделить глазами всю картину по диагонали».
Эти слова Василия Ивановича и послужили нам основным директивой при том опыте анализа его композиции, который мы попытались дать в этой книге.
На вопрос мой о палитре Василий Иванович отвечал:
«Я употребляю обыкновенно охры, кобальт, ультрамарин, сиену натуральную и жженую, оксид-руж, кадмий темный и оранжевый, краплаки, изумрудную зелень и индейскую желтую. Тело пишу только охрами, краплаком и кобальтом. Изумрудную зелень употребляю только в драпировки — никогда в тело. Черные тона составляю из ультрамарина, краплака и индейской желтой. Иногда употребляю персиковую черную. Умбру редко. Белила — кремницкие».
Самобытность и своеобразность его натуры не могла не сказываться в современной жизни чертами анекдотическими.
Так, в Париже, приходя в Академию Коларосси на croquis[10], он частенько довольно бесцеремонно расталкивал работающих, чтобы занять лучшее место, приговаривая: «Же сюи Суриков — казак рюсс».
Человек другой эпохи и другой расы, он часто обращался к своим современникам колючими сторонами своей натуры. Особенный протест подымался в нем, когда он заподозревал желание на себя повлиять, им воспользоваться для своих целей. Характерен его эпизод со Стасовым после того, как была выставлена «Боярыня Морозова».
«Помню, на выставке был, — рассказывал он. — Мне говорят: „Стасов вас ищет“. И бросается это он меня обнимать при всей публике. Прямо скандал.
— Что вы, — говорит, — со мной сделали?
Плачет ведь. Со слезами на глазах. А я ему говорю:
— Да что… Вы меня то… (Уж не знаю, что делать — неловко) Вот ведь здесь „Грешница“ Поленова.
А Поленов-то ведь тут — за перегородкой стоит. А он громко говорит:
— Что Поленов?.. Дерьмо написал. Я ему:
— Что Вы?.. Ведь услышит.
А Поленов-то мне ведь письма писал — направить хотел, как ему не стыдно: „Вы вот „Декабристов“ напишите“, только я думаю про себя: „Нет уж, ничего этого писать не буду“».
И продолжая свои воспоминания:
«Император Александр III тоже на выставке был. Подошел к картине: „А это юродивый“, — говорит. Все по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось — не мог говорить. А другие-то, как лягавые псы, кругом…
Я на Александра III смотрю как на истинного представителя народа. Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым. Нас в одной из зал дворца поставили. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг сзади мимо меня — громадный, я ему по плечо был. В мантии и выше всех головой. Идет и мантию так ногами сзади откидывает. Так и остались в глазах плечи. Я государыни-то и не заметил с ним рядом. Грандиозное что-то в нем было.
А памятник этот новый, у храма Спасителя, никуда не годится. Опекушин совсем не понял его. Я-то ведь помню. И лоб у него был другой, и корона сидела иначе. А у него на памятнике корона приземистая какая-то и сапоги солдатские. Ничего этого не было».
Из современников своих Суриков особенно ценил мнение Льва Толстого и часто ссылался на него, как мы видели. Но это, конечно, не устраняло столкновений между этими двумя властными и столь друг на друга непохожими натурами.
«Софья Андреевна, — говорил он, — заставляла Льва в обруч скакать — бумагу прорывать. Не любил я бывать у них из-за нее. Прихожу раз: Лев Николаевич сидит, у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол. Лев Толстой делает. Противно мне стало — больше не стал к ним ходить».
Про разрыв Сурикова с Толстым я слыхал такой рассказ от И. Э. Грабаря:
«А он Вам никогда не рассказывал, как он Толстого из дому выгнал? А очень характерно для него. Жена его помирала в то время. А Толстой повадился к ним каждый день ходить, с ней о душе разговоры вел, да о смерти. Так напугает ее, что она после целый день плачет, просит: „Не пускай ты этого старика пугать меня“. Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, с верху лестницы на него:
— Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу твоего не было.
Это Льва Толстого-то… Так из дому и выгнал».
Последним публичным актом Сурикова было письмо в «Русских ведомостях», написанное по поводу травли, поднятой в это время против Грабаря из-за перевески картин в Третьяковской галерее.
«Волна всевозможных толков и споров, поднявшихся вокруг Третьяковской галереи, не может оставить меня безучастным и не высказавшим своего мнения. Я вполне согласен с настоящей развеской картин, которая дает в надлежащем свете и расстоянии возможность зрителю видеть все картины, что достигнуто с большой затратой энергии, труда и высокого вкуса. Раздавшийся лозунг „быть по-старому“ не нов и слышался всегда во многих отраслях нашей общественной жизни.
Вкусивший света не захочет тьмы».
Письмо это было написано Суриковым за несколько дней до смерти.
Умер он 6 марта 1916 года.
Обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека большого художника, поступает так: она рождает его наделенным такими жизненными и действенными возможностями, что ему их не изжить и в десяток жизней. А затем она старательно запирает вокруг него все выходы к действию, оставляя свободной только узкую щель мечты, и, сложив руки, спокойно ожидает, что будет.
Поэтому источник всякого творчества лежит в смертельном напряжении, в изломе, в надрыве души, в искажении нормально-логического течения жизни, в прохождении верблюда сквозь игольное ушко. В самых гармонических натурах художников мы найдем этот момент. Иначе и быть не может. Иначе им незачем было и творить, они бы просто широко и блестяще прожили свою жизнь.