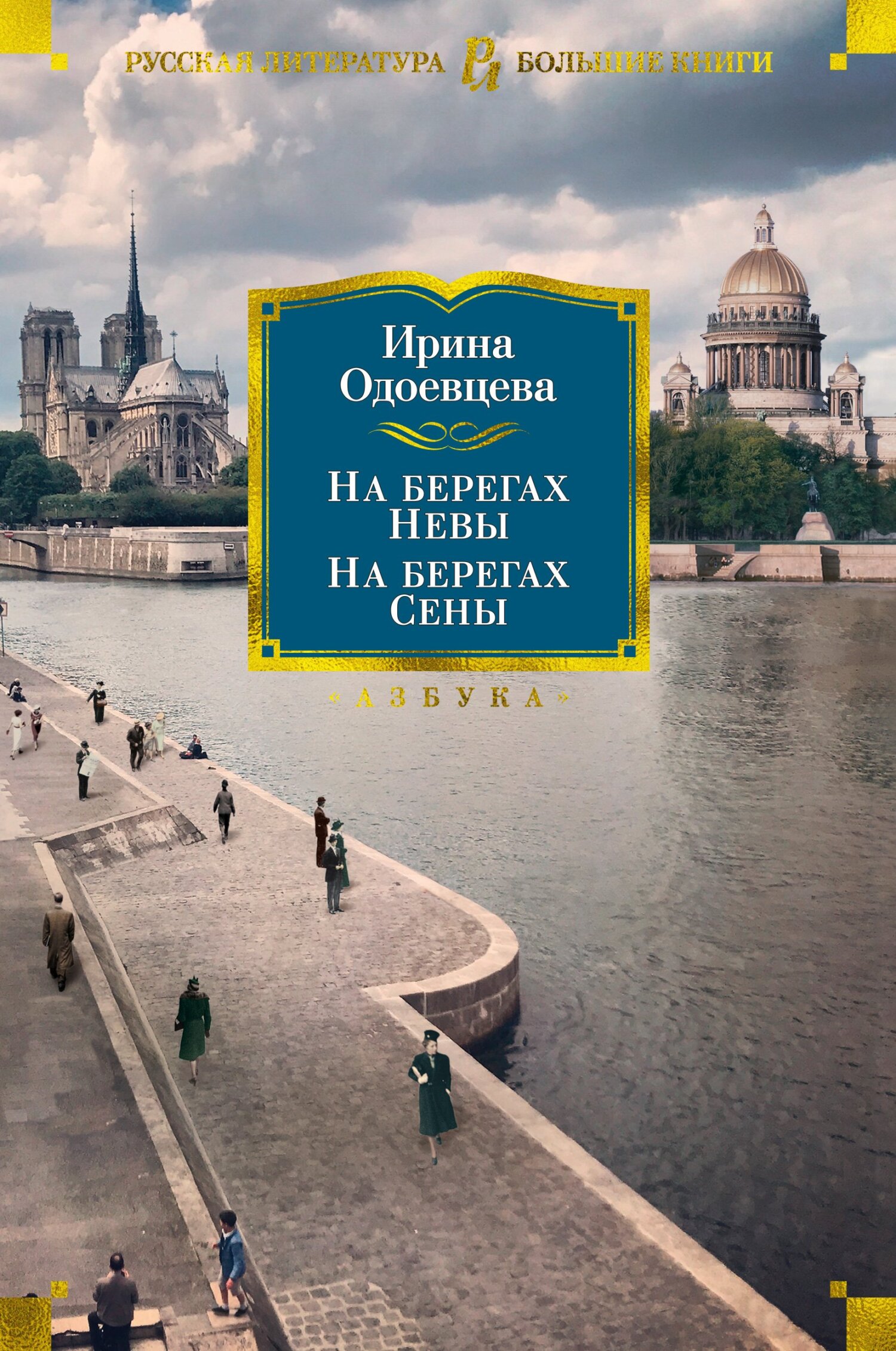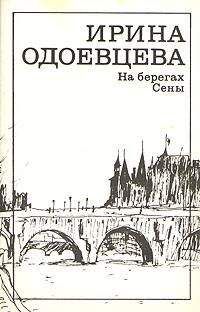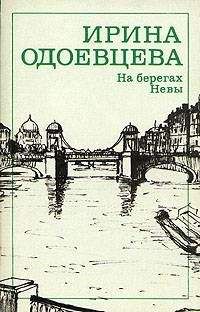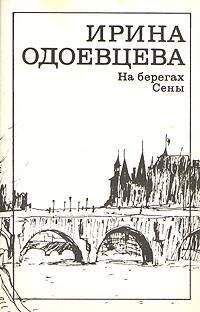Белолапка-серокошка Раз уселась на окошко, А по улице идет Очень важный тигрокот. Увидал он белолапку — Скок! И хвать ее в охапку, Под себя ее подмял Тигрокот, ну и нахал!
Просто чудесно. Какое мастерство! Ни одного лишнего слова. Из-за этой «Белолапки» мне иногда даже кажется, что я был слишком строг, несмотря на ее ужасающие безвкусные «Драгоценные камни» и «Слезы души», к ее стихотворству, раз она смогла так написать. Впрочем, у Тэффи была кошка, и это она ее, должно быть, вдохновляла. – И с грустью добавляет: – До чего мне здесь в Ганьи не хватает кота! – Он встает. – Мне надо идти домой, а то я не успею прочесть вам свою статью до обеда. – И мы уходим…
Теперь, оглядываясь назад, я ясно вижу, что тот день, когда мы втроем сидели в саду, был последним светлым днем жизни Терапиано. Но тогда я не услышала тяжкой поступи надвигающегося на него рока, не увидела гибели, уже стоявшей за его плечами. Прошли годы, но никто мне его не заменил и не заменит.
* * *
В Русской консерватории сегодня мой вечер поэзии. Мы с Юрием Константиновичем Терапиано только что приехали из Ганьи и направляемся к вешалке. Народу в вестибюле собралось порядочно. Терапиано помогает мне снять пальто. В это время ко мне подходит элегантный пожилой господин с маленькой бородкой. «Горбов, – представляется он, поклонившись, и протягивает мне конверт. – Абрам Осипович Гукасов просил меня передать вам 100 франков». Я отказываюсь: «Я послала ему бесплатный пригласительный билет». Но Горбов настаивает: «Абрам Осипович будет обижен, и 100 франков на улице не валяются», – добавляет он с улыбкой. Приходится согласиться. Да и в самом деле, деньги на улице не валяются…
Вечер прошел удачно. Было много аплодисментов и много цветов. Цветы я раздала присутствующим и хотела одну розу подарить Горбову, но в этот вечер его больше не видела.
Так состоялось мое первое знакомство с Яковом Николаевичем. Это было в 1963 году. Никакого предчувствия я в тот вечер не имела и не думала, что эта встреча будет для меня иметь какое-то значение. О существовании русско-французского писателя Горбова я знала, конечно, и раньше, а он позже признался мне, что буквально влюбился в мою «Изольду», написанную в 1929 году. С этой книжкой он не расставался, она побывала с ним даже на фронте, куда он отправился в 1940 году, вступив добровольцем во французскую армию. «Изольда» приняла участие и в одном бою, где Яков Николаевич был ранен, и на ней остались пятна крови…
Через неделю в журнале «Возрождение» появилась лестного содержания заметка о моем вечере, подписанная Горбовым. Я не сочла нужным его за нее поблагодарить. В это время я вела переговоры с Гукасовым о своем вступлении в журнал «Возрождение» в роли «эминанс гриз» [120]. Я хотела, чтобы такой финансово-обеспеченный журнал стоял бы на должной высоте в литературном отношении, чего на самом деле не было. Я предлагала расширить журнал, пригласив сотрудничать таких русских писателей, пишущих по-французски, как Труайя и др., а также русских американцев, и освободиться от сотрудников, не представляющих настоящей ценности. Для Гукасова я была настоящей находкой, идеальной сотрудницей. Во-первых, я не требовала вознаграждения (а надо сказать, что Гукасов был сказочно скуп), во-вторых, я знала английский язык, что в его глазах почему-то было большим плюсом. Из этого предприятия, однако, ничего не вышло. Засевшая в журнале братия, боясь перемен, приняла меня в штыки. Воевать с ними я не собиралась и решила отойти. Единственно, кто меня там поддерживал и был на моей стороне, – это Яков Николаевич. Я несколько раз с ним завтракала в ресторане, по его любезному приглашению, и мы с ним договорились устроить два вечера русской поэзии, пригласив к участию поэтов из Америки. Конечно, и тут не обошлось без трений. Многие неприглашенные мне этого простить не могли до конца жизни.
Гукасов умер. «Возрождение» закрылось, так как он не оставил средств для его дальнейшего существования. С Горбовым я долго не встречалась. Напомнил о нем Терапиано. Однажды, вернувшись из Шелль, где он навестил разбитого параличом поэта Мамченко, он мне сказал, что встретил там Горбова и ужаснулся его виду. Он осунулся, оброс седой бородой, одет неряшливо в какой-то старый поношенный костюм и ежедневно ездит из Парижа в Шелль. Целыми днями просиживает со своей потерявшей рассудок женой или водит ее под руку по саду… Я содрогнулась, представив себе эту картину, и мне стало страшно жаль Горбова и захотелось ему чем-нибудь помочь. Я думала, что после закрытия «Возрождения» он остался без средств, и хотела устроить его в нашем доме, в Ганьи. Отсюда ему и ближе будет ездить в Шелль к жене, и будет жить на всем готовом. Я поделилась с Оболенским моими планами, но он махнул рукой: «Горбов – конченый человек, он не только ничего не пишет, но совсем одичал, нигде не бывает, кроме как в Шелль, замкнулся в себе…» Я не хотела с этим согласиться и, увидев Горбова в день юбилея Б. К. Зайцева, куда он все-таки зашел, хотела с ним поговорить. Увидев, что мы с Терапиано к нему приближаемся, он буквально шарахнулся в сторону, явно избегая встречи, но мы его остановили, и я ему предложила вернуться с нами к Зайцеву, куда мы направлялись. «Нет, нет… мне надо домой», – отказался он. Вид его был действительно жалкий. И он мне напомнил в эту минуту героя одного из его романов – отца Транкиля, человека глубоко несчастного и убежденного, что он приносит несчастье и другим. Еще раз, случайно, я встретила Горбова в поезде. Сижу задумавшись. Вдруг слышу: «А меня не узнают». Оказывается, рядом со мной сидит Горбов. Действительно, его было все труднее и труднее узнать. Вид у него был болезненный, измученный, был он какой-то странный, рассеянный. Я пригласила его приехать ко мне в Ганьи на обед. Он вдруг согласился и действительно приехал, и на этот раз побритый и прилично одетый. Переехать в наш дом он отказался, сказав, что не бросит своей квартиры, где прожил 35 лет. Я проводила его на вокзал, и на этом