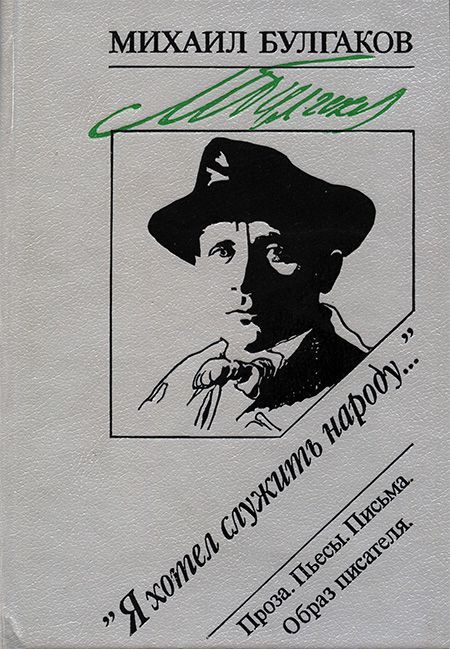у памятника Первопечатнику, где гуляют, негромко переговариваясь, симпатичные граждане с огнем тайного вожделения в глазах и книгами, засунутыми за отворот пальто, случилась сенсация. Том Булгакова, шедший накануне за восемь червонцев, внезапно упал до 50 рэ. Встревожились книголюбы, и те, кто приглядывает за книголюбами, тоже обеспокоились. Кто-то наводнил рынок по меньшей мере тысячью новеньких экземпляров в балакроне. Чудилась крупненькая афера.
Сотрудники ходили потерянные, переговаривались вполголоса, жалели директора и в душе прощались с ним. К счастью, вскоре выяснилось, что издательство лихорадило напрасно: замок на киоске был надежен и криминальных упущений в распределении книг в балакроне не обнаружено.
Позднее следствию удалось установить, что сотни пачек книг таинственно исчезли из длинного, серебристого, наглухо запертого и опломбированного автофургона на перегоне из Ленинграда, где печатался тираж, в Москву. При этом, по слухам, не пострадали транспортируемые тем же рейсом пособия для занимающихся в сети политпросвещения, логарифмические таблицы Брадиса, а также новенькие поэтические сборники «Дрозды» и «Майское утро».
Вот и представьте: лунная ночь, сверкающая лента Ленинградского шоссе, новейший гигантский трейлер, мчащийся на предельной скорости с ослепительными желтыми фарами… И отчаянные русские мафиози в черных полумасках, останавливающие фургон посреди дороги, чтобы похитить из него… романы Булгакова. Это ли не дьяволиада?
Впрочем, феноменальная посмертная слава пришла к Булгакову не в одночасье. На моей памяти начиналась его вторая литературная жизнь.
В 60-е годы у многих читателей сложилось впечатление, что в нашей литературе, помимо хорошо известных лиц, чьи адреса и телефоны можно найти в справочнике Союза писателей, тайно работает еще один — и незауряднейший — современный прозаик. Книги Булгакова появлялись будто из-под земли, с малыми интервалами, одна за другой и имели нарастающий успех, каждая последующая лучше предыдущей. Мне выпала редкая удача — писать о книгах Булгакова по свежему следу, писать о нем как о современнике. В 1962 году вышла «Жизнь господина де Мольера». Потом появились «Записки юного врача» (1963), «Театральный роман» (1965) и, наконец, «Мастер и Маргарита» (1966―1967). Я откликался на эти книги рецензиями, статьями, будто на новинки живущего рядом писателя, спорил с критиками, которые пытались оттеснить его в тень. Читателей взволновала судьба Булгакова, потрясли его книги, и я стал получать от них письма. Лишь по поводу спора вокруг «Мастера и Маргариты» я получил их больше полусотни.
Об одном из писем хочу рассказать. Шли последние недели моей работы в «Новом мире», когда однажды положили мне на стол коричневую, изжеванную при пересылке бандероль, прочно увязанную шпагатом и обклеенную со всех сторон марками. Обратного адреса на бандероли не было. С тоскою подумал я, что вот еще кто-то прислал на отзыв свою работу в робкой надежде напечататься, и скорее всего понапрасну: случись даже, что рукопись хороша, я вряд ли успел бы что-либо сделать для ее автора. В бандероли, однако, оказалась не рукопись. То была книга в самодельном зеленом переплете с обтрепанными полями, карандашными пометками — читанный, видно, десятки раз и не одним читателем роман «Мастер и Маргарита», аккуратно вырезанный из старого комплекта журнала «Москва». Вместо послесловия домашний переплетчик подшил к книге мою статью о романе.
Я держал в руках трогательный читательский «конволют», как выражаются библиофилы (такие мне уже приходилось видеть), но не понимал, зачем он мне прислан, пока из книги не выпало письмо. Вот оно:
«Я не буду уже знать, получили ли Вы принадлежащее Вам (бандероль будет отправлена после меня), но если даже и нет, то все же мне легче думать сейчас об адресате неведомом, чем заведомо недостойном.
Эту книгу мне некому оставить („После тяжелой и продолжительной…“). Распорядитесь ею Вы, по своему усмотрению.
Говорят: книга — друг. Пусть так. Но для меня книга была чем-то большим. Мне книга приносила ту радость духовного единения, какую мы так тщетно стремимся получить в общении с людьми. С книгой мы до конца понимаем друг друга. Здесь гармония. Здесь восторг. Здесь что-то от кирилловских „пяти секунд“… Есть любимые писатели, любимые вещи, места… и часто возвращалась я к ним, к этому спокойному и привычному миру. Но вот — Булгаков, и все отодвинуто.
Не Вам мне рассказывать о действии на нас этой книги, но я хочу сказать: разве можно остаться равнодушным, разве можно без слез слушать: „…Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший“. Или: „…он отдался с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его…“ Или: „Навсегда!.. Это надо осмыслить…“
Так ведь это что же, это же теплое, живое сердце бьется в ваших руках! Да… Это надо осмыслить… А слова, что слова? Только пылкое наше воображение доскажет нам их. Не в том дело, что даже сам сатана предстал перед нами добрым гением. Дело в бездомновском „караул!“.
Людей ведь не убеждают ни слова, ни страдания человека… В тебе, может быть, бомба отчаяния разорвалась, а люди скажут: пьяный, что ли… Не знаю, но для меня этот „караул!“ достоин „кисти винограда“ у Достоевского…
Беспокою Вас последний раз. Желаю Вам еще долгие годы…»
Письмо заключали несколько добрых слов, обращенных ко мне лично, и подпись стояла «Е. С.» и дата: 15.XI―69 г.
Я вспомнил, что однажды уже получал письмо от этой женщины по поводу какой-то журнальной драки, в которой мне пришлось участвовать. Это была фельдшерица районной поликлиники из подмосковного городка Калининграда Е. С. Вертоградова. Посмотрел еще раз на дату — 15 ноября, а на дворе был конец декабря. Стало быть, бандероль с письмом ждала где-то, пока ее не стало. Тот, кому она доверяла, выполнил ее последнюю волю, и я получил подарок с того света. Не знаю и, наверное, не узнаю теперь никогда, какую жизнь прожила эта женщина, сколько ей было лет, отчего она умерла. Но ее любимая книга в самодельном переплете с коленкоровыми уголками осталась у меня как память о ней, окликнутой гением Булгакова и благодарно отозвавшейся ему на вершине человеческого страдания.
Благодаря ей, это подмосковной медсестре, я снова думал о романе Булгакова. О том, чего не сумел выразить и договорить в своей статье о «Мастере» и на что она предсмертным, вещим знанием мне указала. Думал о том, как сильно и пророчески, выше любых слов, связаны в теме смерти боль перехода в небытие, страх полного уничтожения и надежда на вечную память. Как хочется, наверное, уходя навсегда, удержать с собой и сохранить,