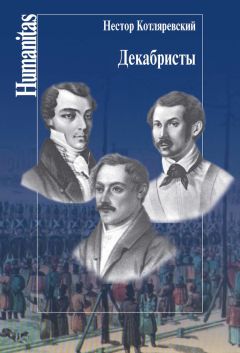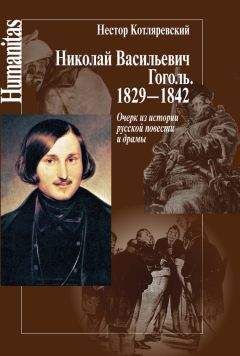Ознакомительная версия.
В 1827 году сменили коменданта форта. Новый начальник не внес ничего нового в жизнь узников, если не считать того обстоятельства, что приехал с полувзрослой дочерью. Ее присутствие отозвалось довольно странным образом на заключенных. Если верить Якушкину то Бестужев, Арбузов и Тютчев из чувства соревнования выщипали себе бороды, которых им не брили, а Бестужев, кроме того, стал повязывать себе голову красным шарфом в виде чалмы. Наводить на себя красоту Бестужеву пришлось, однако, недолго, так как в конце октября 1827 года его увезли из форта.
Покидал он Финляндию в необычайно шутливом, «отличном» расположении духа.[188]
Проездом через Петербург он имел свидание с графом Дибичем, который ему объявил, что от каторжных работ он освобожден и что ему даже позволено писать и печатать «с условием, однако, не писать никакого вздору».
Спустя несколько дней фельдъегерь увозил Бестужева в Якутск. Спутником его был Матвей Иванович Муравьев-Апостол.
Вот что он рассказывает в своих воспоминаниях[189] об этом перегоне их этапной жизни. «Фельдъегерь вез нас через Ярославль, Вятку, Пермь и Екатеринбург. Тут остановились мы у почтмейстера, принявшего нас с особенным радушием. После краткого отдыха в зале открылись настежь двери в столовую, где роскошно накрыт был обеденный стол. Собралось все семейство хозяина, и мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие уже от всех удобств жизни и усталые от томительной дороги, очутились негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и угощавших с непритворным радушием. Осушались бокалы за наше здоровье, и хотя положение наше не предвещало нам радостей, но мы забыли на час свое горе и от всей души заявили признательность свою за необъяснимое для нас радушие приема».
Путешественники нашли дружеский прием и у чиновников более высокопоставленных: тобольский губернатор Д. Н. Бантыш-Каменский и красноярский губернатор Бегичев – оба писатели – встретили своих собратьев по перу не как преступников, а как добрых знакомых.
«По дороге из Тобольска, – рассказывает Муравьев, – нас все время смущало неисполненное желание догнать ехавших перед нами товарищей наших, в числе коих находились двое братьев Бестужевых, Николай и Михаил. Нетерпение Марлинского видеться с ними оборвалось на мне. Наш официальный спутник, приняв в соображение особое ко мне расположение тобольского губернатора, обращался почтительно ко мне на всякой станции с вопросом: желаю ли я отдохнуть, или приказать закладывать лошадей? Из этого Александр Бестужев заключил, что от меня бы зависело уговорить квартального доставить нам возможность повидаться с его братьями, но, узнав от нашего пестуна, что ему строжайше предписано не съезжаться на станциях с опередившим нас поездом, и жалея его, я не решился вводить его в искушение. Разногласие это не раз возбуждало между нами горячие прения, не расстроившие, впрочем, нисколько наших дружеских отношений. При его впечатлительности и страстной натуре, Александр Бестужев одарен был любящим сердцем, с редкою уживчивостью».
«В конце ноября мы прибыли в Иркутск поздно вечером и остановились у крыльца губернаторского дома, где нас объяло звуками бального оркестра. Мы тут долго ожидали распоряжения начальника губернии; наконец, выскочил на крыльцо какой-то вспотевший от танцев чиновник и приказал вести нас в острог. Отворилась дверь внутреннего арестантского помещения, и я, не переступая порога, успел только заметить, что там нас ждут А. П. Юшневский и Спиридов, как вдруг чувствую, что меня кто-то обнял и лобызает; это был не кто иной, как часовой, стоявший под ружьем у дверей. Я признал в нем рядового Андреева, переведенного из старого семеновского полка на службу в Сибирь, вследствие разгрома, постигшего этот славный полк».
«Не без утешения бывает и самая горькая доля! На другой день подоспели к нам двое Бестужевых, Николай и Михаил, Якушкин, Арбузов и Тютчев. Пожаловал к нам и губернатор и после краткого приветствия извинился перед А. Бестужевым и мною, что нас заключили в острог по ошибке, так как мы избавлены от работ и, хотя мы просили не разлучать нас с товарищами, он, ссылаясь на какой-то закон, приказал поместить нас на квартиру. Горько показалось нам неуместное смягчение участи нашей».[190]
«После трехдневного пребывания в Иркутске мы с А. Бестужевым отправились, в сопровождении молодого казачьего урядника, к месту своего назначения»…
24 декабря, накануне Рождества, добрались они до Якутска, и здесь Муравьев с Бестужевым простился. Муравьев ехал в ссылку в Вилюйск, а Бестужев остался на поселении в Якутске.
О новых условиях жизни, в какие попал теперь Александр Александрович, и о новых ощущениях, какие эти условия вызвали в его душе, нам дают довольно подробный отчет письма, которые он писал в Читу к своим братьям, Николаю и Михаилу, – «к кровным и картечным братьям», как он называл их. Письма эти сохранились,[191] хотя конечно не все: и надо удивляться, что они вообще уцелели, так как, чтобы попасть из Якутска в Читу, они должны были прежде побывать в Петербурге в жандармском управлении. В этих интимных письмах собран очень интересный материал и биографический, и литературный, и даже этнографический.
Жизнь Александра Александровича на дальнем севере, «где кровь мерзнет и даже винный спирт прячется в шарике», была не из веселых, но нельзя назвать ее и жизнью лишений и горя: то была скучная и томительная жизнь.
Ссыльный не находил себе места в окружающем обществе. Можно было, конечно, интересоваться жизнью и бытом якутов, приглядываться к их лени и нечистоте, к разным их лукавствам, чтобы вывести, наконец, заключение, что «они имеют приятное качество соединять в себе приобретение всех пороков образования, с потерей всех доблестей простоты», – эти наблюдения могли дать кое-какую пищу остроумию и иронии; можно было также тратить все свободное время (а оно, к сожалению, все было свободно) на охоту, чтобы промерзать зимой до костей, а летом убеждаться, что дичь неучтива, леса безмолвны, как могила, и стрелять некого – эти прогулки могли развлечь, заставить подчас сострить и сказать отборной французской речью: Le gibier dans les environs de Petersburg a plus d'urbanité et se laisse plomber avec meilleure grâce – но все это, конечно, быстро приедалось. А в окружающем городском обществе едва ли можно было найти что-нибудь, что отвлекло бы интерес от якутов и неразысканной дичи.[192] «Я мало верил доселе трактатам господ физиологов о влиянии климата на темперамент, ибо в северной Пальмире своей встречал все страсти Италии, хоть редко, но несомненно, – писал Бестужев, – зато здесь неверие мое склонилось подобно магнитной стрелке: при каждом философском взоре более и более убеждаешься в этой истине. Здесь ум и чувства людей в какой-то спячке: движения их неловки и тяжелы, речь однозвучна и протяжна: сидеть есть величайшее их удовольствие и молчать – не труд, даже женщинам. Здесь движутся только желчные страсти: корысть, зависть, тщеславие. Все это течет с кровью мерзло и безжизненно». Эти слова, как можно заключить из общего контекста, сказаны Бестужевым о простом народе, – но и о том, что называется «обществом», он был не лучшего мнения. «У здешних жителей, – пишет он, – нет ни добродушия, ни одной благородной черты в характере, и делать зло, чтобы показать, что они могут что-нибудь делать, есть их первое наслаждение. Можете себе представить, что я не избег их злословия или за то, что сам не кланяюсь, или за то, что мне иные кланяются. Но я, как и всегда, мало о том забочусь»… «Истинное гостеприимство обледенело в этом отечестве сорокаградусных морозов: тут только выставка. Я не посещаю собраний и знаком только с двумя домами. Иногда меня навещают и наводят на меня скуку; видел я у себя даже хорошеньких дам. Но да будет тому стыдно, кто превратно истолкует мои слова».
К дамам Александр Александрович был всегда неравнодушен; и позднее, как мы увидим, они вносили большое разнообразие и даже большую тревогу и печаль в его походную жизнь. Но в Якутске – насколько следует из его писем – однообразное течение этой жизни их вторжением не прерывалось, и Бестужев влачил свои дни, хотя – не без мысли о дамах – и изображал собой, как он сам говорил, «модную картинку». Сердце «просило практики», но, кажется, что в Якутске этой практики не было…
Жизнь вообще была очень скучная, если не считать тех редких моментов, когда судьба заносила на север какого-нибудь нежданного гостя; но, конечно, и с этими гостями отношения были далеки от сердечности и притом не по вине Бестужева. Единственный человек, с которым Бестужев мог поделиться если не чувством, то хоть мыслями, был проезжий немецкий ученый, доктор философии Эрман, с которым у Бестужева завязалась потом ученая переписка.[193]
Ознакомительная версия.