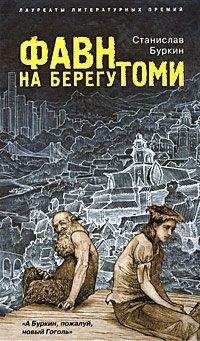Тридцатиградусный мороз, ударивший под рождество, был красноярцу нипочем: скунсовая шуба грела его, а еще больше подогревало его кровь волнение перед задуманным.
На его счастье, у Шарэ в этот вечер не было никого из посторонних. В гостиной, вся зардевшись, встретила его Лизанька.
Она медленно подошла к нему и подала ему обе руки сразу. Суриков, улыбаясь, крепко сжал ее руки в своих, потом вдруг, спрятав улыбку, спросил глуховато и серьезно:
— Можно мне увидеть вашего батюшку?
Лиза посмотрела на него, и румянец схлынул с ее щек. Она чуть помедлила, потом решительно подошла к двери кабинета и распахнула ее:
— Папа, к вам гость! — и тут же, не глядя на красноярца, выскользнула.
Шарэ сидел в глубоком кресле с книгой и сигарой. На круглом столике возле стояла лампа с зеленым абажуром-козырьком.
Старик встал. С конца наполовину раскуренной сигары отвалился плотный серый столбик пепла и упал на густой, пунцовый ковер кабинета. Шарэ никак не ожидал этого гостя и встретил его с радушным недоумением:
— Здравствуйте, молодой художник! Здравствуйте! Чем обязан вашему визиту?
— Я пришел просить руки вашей дочери Елизаветы Августовны! — бухнул Суриков без обиняков.
Он стоял посреди кабинета, прямой, словно готовый к контратаке, и, не мигая, смотрел в глаза французу. Шарэ почти упал обратно в кресло.
— Но… Но… Позвольте, молодой человек…
В эту минуту дверь распахнулась, и сама Елизавета Августовна, стремительно и неслышно ступая по ковру, подошла к Сурикову и просунула похолодевшую руку под его локоть.
— Я согласна, папа! — тихо и твердо вымолвила она.
Так и стояли они молча, рука об руку перед старым Шарэ, от удивления потерявшим дар речи…
Свадьба была назначена на конец января. Семья Шарэ охотно приняла Сурикова в свое лоно.
Больше всего удивляло и восхищало Августа Шарэ то, что Василий Иванович нимало не интересовался приданым своей невесты, как будто этого вопроса и не стояло никогда перед ними всеми. Правда, Шарэ и не смог бы дать за Елизаветой никакого состояния — ни движимого, ни недвижимого, дело ограничилось одним лишь сундуком с бельем и платьями. В доме были четыре дочери, и, кроме воспитания, Шарэ ничего не мог им дать.
Но Василий Иванович ни на что и не рассчитывал. Он презирал всех, кто женился на деньгах, и считал, что у него есть все возможности обеспечить свою будущую семью. Он был счастлив, любим и независим.
В январе 1878 года ему исполнилось тридцать! Его невеста была на десять лет моложе.
В эти дни, когда в корне менялась его жизнь, он писал домой еще более нежные и заботливые письма маме и Саше, но ни одного слова о помолвке! Слишком трудно было ему объяснить матери-сибирячке, что он соединяет свою судьбу с француженкой. Они были настолько разными, эти две любимые им женщины, что он не мог даже представить себе их вместе.
Лилечка — так звали дома его будущую жену, эта блестящая светская девушка, по утонченности и изяществу изысканных туалетов настоящая парижанка, веселая, умная, образованная, — и суровая старуха в повойнике, полуграмотная сибирячка, с лицом, похожим на печеное яблоко, с заскорузлыми от работы ладонями потемневших, морщинистых рук и с пристальным взглядом выцветших зрачков, похожих на зрачки степной орлицы.
Пока Василий Иванович ничего не станет писать домой. Пусть им расскажет кто-нибудь из Кузнецовых, тот, кто первый попадет в Сибирь. И он старался не думать об этом и не омрачать себе неповторимой поры жениховства.
Балы, визиты к многочисленной родне невесты, выезды, театры, святочные катанья на тройках… Василий Иванович, сам над собой посмеиваясь, старался быть любезным, и приятным обществу, в чем и преуспевал при всем своем необщительном характере.
Но поздно вечером, возвращаясь в свою неприглядную комнатушку в дешевой гостинице, он часто думал, сбрасывая новый пиджак: «Ну вот, скоро кончится вся эта свистопляска, и начнем жить по-человечески». И, едва прикоснувшись головой к твердой подушке, мгновенно засыпал без сновидений, словно окунувшись в теплое, темное безраздумье.
Венчались они 25 января во Владимирской церкви. На свадьбу явилась вся многочисленная родня Шарэ-Свистуновых. Народу было тьма. А жених пригласил только семейство сибиряков Кузнецовых, которые заменяли ему родню, да любимого учителя и друга Павла Петровича Чистякова.
Поздравляли молодых на Мойке. Пенилось шампанское в хрустале, и на столе были блюда с искусно приготовленными французскими закусками и фруктами. Молодые — сияющие, смущенные — принимали поздравления, ловя друг друга вопрошающими, счастливыми взглядами. В этот же вечер они должны были отбыть в Москву. Все приданое невесты было уже отправлено на вокзал и сдано в багаж.
Мать и сестры нет-нет да и вытрут платочком глаза, готовясь к расставанию с самой младшей и самой любимой.
И вот пришло расставание. И только когда поплыла назад платформа с провожающими, махавшими и кричавшими вслед что-то непонятное, молодожены почувствовали, что где-то там, за исчезавшими тусклыми вокзальными фонарями, остались их две жизни, прожитые врозь.
Впереди была одна — общая, огромная, неизвестная.
Май 1878 года. Седьмое число. На Мясницкой улице, против Почтамта, в залах московского Училища живописи и ваяния, открылась эта выставка Товарищества художников. После Петербурга и Москвы она совершила путешествие по многим городам России: Воронеж, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Одесса, Рига… В залах было развешано около семидесяти полотен виднейших русских художников: Крамского, Репина, Савицкого, Ярошенко, Мясоедова, Маковского, Куинджи, Максимова, Васнецова, Шишкина, Лемоха, Клодта. И так уж полагалось: на открытие в Петербург съезжались москвичи, а на открытие в Москву — петербуржцы.
В дни открытия вся Москва перебывала на выставке, и все газеты и журналы поместили статьи и отзывы.
— Это лучшая из всех бывших до сих пор выставок! — с энтузиазмом восклицал критик Стасов. — И какое заглавие у этих молодых людей: «Товарищество!» Как хорошо себя назвали они. Какими добрыми товарищами стоят они все рядом! — восхищался Стасов сплоченностью Артели художников.
В первый же день побывала на выставке и чета Суриковых.
Елизавете Августовне всю зиму недужилось. Лицо ее осунулось, черты заострились, рот стал большим, чуть выпуклые, всегда спокойные глаза теперь глядели тревожно и сосредоточенно: она носила ребенка. Сейчас, к весне, она почувствовала себя лучше и охотно согласилась пойти на открытие выставки. Здесь, в Москве, у них почти совсем не было друзей, замкнуто и уединенно жили они на Плющихе в доме Ахматовой.