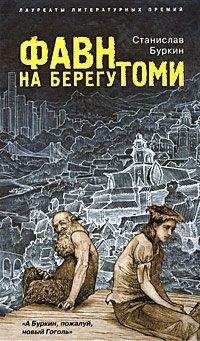В майский полдень Василий Иванович нанял извозчика и повез жену «в свет».
Здесь собрался весь цвет московской интеллигенции. Богатые коллекционеры, от которых во многом зависело благополучие художников, присматривались в поисках чего-нибудь интересного. Среди них выделялся худой высокий человек с темными волосами и тонким умным лицом. Его звали Павел Михайлович Третьяков. В своем доме в Лаврушинском переулке он собрал богатейшую коллекцию картин лучших русских художников.
Живой, подвижной, несмотря на полноту, Савва Иванович Мамонтов, с глазами навыкате, с темной бородкой, оживленно беседовал с петербуржцем — блестящим пианистом Сафоновым, приехавшим в Москву давать концерты. Рядом с ними стоял музыкант Альбрехт, основатель только что открывшегося в Москве Русского хорового общества. Сам скульптор и большой любитель и знаток музыки, Савва Иванович у себя в имении Абрамцево, когда-то принадлежавшем писателю Аксакову, часто устраивал встречи музыкантов, художников и писателей. Целые оперы сочиняли, разыгрывали и распевали молодые таланты…
Появились на выставке и актеры Малого театра: знаменитый трагик Ленский, с тяжелым взглядом серых усталых глаз, ходил по залу под руку с актрисой Медведевой, игравшей старух. С ними вместе приехали молодые талантливые актрисы Никулина, Федотова и только что вступившая на подмостки Малого театра актриса богатейшего дарования — Ермолова.
Кого тут только не было! Видные московские адвокаты, модные врачи, светские львы — дворянские сынки, лощеные военные и, конечно, завсегдатаи всех сборищ — московские хлыщи и франты.
Качались огромные перья на шляпах светских модниц, сверкавших драгоценностями и укутанных в дорогие меха. Эти мало что понимали в живописи, но наперебой покровительствовали талантам, заказывая свои портреты и покупая картины для своих особняков.
Студенчество собиралось кучками и, споря и волнуясь, толковало о новых картинах. Молодые курсистки, из которых добрая половина слыла «нигилистками», выглядели среди разноперой толпы загадочными «искательницами истины». Почти все в стоптанных башмаках и черных потертых жакетах, но полные нескрываемого презрения к «светским львицам», они ходили в одиночку или по двое, пытаясь разобраться в вопросах живописи.
В этот раз публика теснилась возле картины Ярошенко «Кочегар». Пожалуй, еще никогда в выставочных залах не раскрывалась так свободно и смело тема человеческого труда. — Вот уж поистине мужицкое искусство! — цедили дамы, разглядывая в лорнеты рабочего-кочегара с жилистыми, корявыми руками, озаренными огнем пылающей топки. На его жестоком, бородатом лице беспощадно вопрошали глаза: «Ну! Чего вы все встали тут, передо мною? Поди, боязно вам?»
Он был так мастерски написан и столько в нем было обличающей правды, что, наверно, не один обыватель, хоть на мгновение, почувствовал свое ничтожество перед лицом этой честной и грубой действительности. И не было человека, который бы прошел мимо: «Кочегар» притягивал зрителя.
Этой картине была посвящена статья профессора Петербургской академии А. В. Прахова. «У меня не было долгов, а тут мне все кажется, что я кому-то задолжал и не в состоянии возвратить моего долга… Ба, да это «Кочегар»! Вот он, твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу!..» Статья эта не увидела света, она была запрещена цензурой, а профессора Прахова отстранили от преподавания в академии…
Старейший художник, один из основателей Товарищества, Мясоедов на этот раз выступил с большим полотном «Молебен в засуху». Само горе-злосчастье в рваных портках и худых лаптях вышло в поле, захватив с собой попа со святой водой, испрашивать у неба дождя! Под ногами у мужиков мертвая, серая земля, трещинами, как иссохшими раскрытыми устами, просящая влаги. А небо безоблачное, жестокое, далекое — от него ли ждать помощи?..
А вот картина Савицкого — «Встреча иконы». На проселочной дороге остановилась кибитка, в ней из дальнего монастыря везут «чудотворную» икону. Крестьяне соседнего села караулят икону на дороге — «приложиться».
Савицкий удачно показал всю искреннюю веру простого народа и все равнодушие священнослужителей, возящих «Чудотворную» и интересующихся только тем, что перепадет на этом перекрестке в церковную кружку для сбора пожертвований.
Толпа посетителей гудит возле портрета Репина «Протодьякон».
— Говорят, что этот портрет не принят на выставку русских художников, которая едет в Париж?
— Ну конечно, нет! Можно ли посылать за границу такое неприкрытое издевательство над священным саном?
С холста оплывшими глазками глядит толстобрюхий протодьякон, весь в седой бороде и неряшливых космах под засаленной скуфьей. Толстенная пятерня его покоится на брюхе, а другая упирается в пастырский жезл. Ну и чудище! Ну и обжора! И подумать только, где это Репин выискал такого? А ведь писал с натуры — с чугуевского попа Ивана Угланова. Вот каков есть, таким и изображен!
Виктор Васнецов выставил своего «Витязя на распутье». Говорят, что эта картина была заказана художнику Мамонтовым, большим ценителем сказочно-русского стиля.
А вот и Шишкин. На этот раз он изменил дебрям и мхам и вышел в поле. «Рожь», с которой он расправился ничуть не хуже, чем с лесными дебрями, занимала почти всю стену. Она шумела, кивала, падала, качалась, зрея и наливаясь каждым колосом, щедрая и любимая художником. И казалось, Шишкин, этот воспеватель русской природы, любит ее безлюдной, гораздо больше, чем с пахарями и сеятелями на ее фоне…
Василий Иванович шел по залам, внимательно вглядываясь в живопись передвижников. Многое его восхищало, и он отдавал должное мастерам кисти. Снова подойдя к «Протодьякону», он долго разглядывал его.
— Написано блестяще, — говорил он Елизавете Августов- не, — однако до чего ж он противен! И с каким смаком эта противность выписана. Ну и «тулбище!» Ну и прохвост! А ручища-то, вот грязный хапуга!.. Однако написано великолепно!
Толпа стала редеть. Суриков увидел Репина, окруженного дамами, поклонниками, студентами. Он был уже знаком с Репиным. Этот невысокий, подвижной человек с рыжеватой шевелюрой был в ударе, смеялся, шутил, блестя небольшими наблюдательными глазами. Суриков подошел:
— Поздравляю вас, Илья Ефимович! Мощно вы его схватили, вашего протодьякона, хватка у вас верная, безжалостная…
— Благодарю, Василий Иванович! Польщен одобрением! — Репин хитро прищурился и крепко потряс протянутую руку.
Восьмиугольная кирпичная башня уходила ввысь. Василий Иванович стоял под стеной Троице-Сергиева монастыря и, закинув голову, смотрел на венец башни. Там, резко выделяясь на глубокой синеве, сидела, как на гнезде, белая каменная утица. Вокруг нее с визгом метались стрижи.