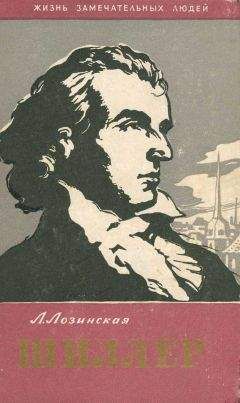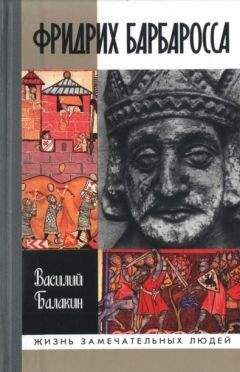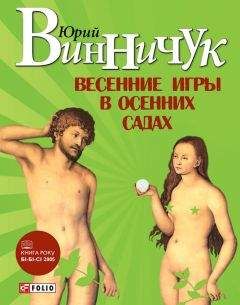Народный трибун Веррина идет к Андреа, так как не видит после предательства Фиеско силы, способной возглавить патриотов. Слишком еще незрел и легковерен народ. Но борьба впереди!
Когда Шиллер начал читать свою драму актерам Мангеймского театра, он не сомневался в успехе: ведь слушать его «Фиеско» собрались все те, кто дал сценическую жизнь «Разбойникам», люди, убежденные в его драматическом таланте, доброжелатели, друзья. Читал он, как всегда, темпераментно, патетически, сопровождая монологи героев жестикуляцией, увлекся, забыл обо всем на свете. Уже после первого акта вместо одобрения поэта ожидало натянутое молчание. Во втором — недоумение слушателей усилилось и перешло в откровенное разочарование. Кто-то начал разговаривать вполголоса, кто-то вышел, остальные явно скучали. Увлеченный чтением Шиллер еще не понимал своего поражения, но Штрейхер, страдая за друга, уже готов был взорваться и излить свое негодование на нерадивых слушателей, когда Мейер незаметно вызвал его в соседнюю комнату.
— Послушайте, друг мой, уверены ли вы, что это тот самый Шиллер, который написал «Разбойников»?
— Совершенно уверен! Но почему вы в этом сомневаетесь?
— Да потому, что «Фиеско» — это худшее из всего, что мне когда-либо доводилось слышать. Не может быть, чтобы автор «Разбойников» создал такую беспомощную, пошлую пьеску. Или надо предположить, что на первую драму он израсходовал весь свой талант?
Недоразумение, стоившее Шиллеру и его другу горькой бессонной ночи, уладилось только на следующий день. За ночь Мейер пробежал глазами оставшийся у него экземпляр драмы и пришел от нее в совершенный восторг.
— «Фиеско» — великолепная пьеса, и мы непременно ее поставим, — таковы были первые слова, которыми приветствовал он Штрейхера на следующее утро. — А знаете ли вы, в чем причина удручающего впечатления, которое произвела на всех эта драма вчера? Причина в швабском выговоре Шиллера и его, прости меня господи, чудовищной декламации. Ведь своей «игрой» он чуть не загубил собственную пьесу!
Спеша поделиться с поэтом радостным известием, Штрейхер решил все же утаить от него комическую причину вчерашней неудачи. У Шиллера — Штрейхер хорошо это знал — была слабость: он воображал себя великим актером. Не далее чем прошлой ночью, сетуя на холодный прием, оказанный «Заговору Фиеско», Шиллер заявил другу, что если ему не удастся стать драматургом, то он пойдет на сцену, и уж на актерском-то поприще, во всяком случае, добьется признания!
Так прошли первые мангеймские дни. Из Вюртемберга Шиллер получил два письма от командира гренадерского полка. В обоих одно и то же: возвращайтесь, герцог сейчас в милостивом расположении духа. Вот и весь ответ на почтительный ультиматум, отправленный поэтом из Мангейма герцогу Карлу. В этом послании к его светлости Шиллер ставил условием своего возвращения право писать, печатать свои произведения, выезжать за границу Вюртемберга и носить штатское.
О том, приняты ли его условия, в письме генерала ни слова. Никаких заверений, никаких гарантий безопасности.
Нет, Шиллер не даст заманить себя в ловушку! Уж кто-кто, а он хорошо знает цену «милостивому расположению духа» вюртембергского тирана! Даже сюда, в Мангейм, может дотянуться его кровавая десница: слухи о том, что он будет требовать выдачи Шиллера, усилились. Герцог Вюртембергский влиятелен в немецких землях; станет ли правительство Пфальца ссориться с ним из-за «беглого полкового лекаря», да к тому же автора бунтарских драм?
Директор театра Дальберг, единственный, кто может решить судьбу «Заговора Фиеско», все еще в Штутгарте. Гроши беглецов тают. А положение поэта все более неопределенно и тревожно. По совету друзей Шиллер и Штрейхер решают временно покинуть Мангейм.
И вот они снова в пути. На этот раз пешком: место в почтовом дилижансе для них непозволительная роскошь.
Их цель — Франкфурт-на-Майне.
Гонимые страхом, они идут двенадцать часов подряд, не останавливаясь ни для того, чтобы полюбоваться живописными развалинами средневековых рыцарских замков, ни чтобы отдохнуть. Единственная допустимая передышка — ночлег в самой дешевой харчевне.
Но на этот раз даже спокойно выспаться не пришлось. Не успели путники, изнервничавшиеся и усталые, вытянуться в своих постелях, рассказывает Штрейхер, как страшный грохот барабана заставил их вскочить на ноги. Пожар? Разбой? Война? Долго выглядывали они в испуге из окна, стараясь понять, в чем причина тревоги. Оказалось, ничего особенного: грохот барабана должен был всего лишь оповестить жителей городка, что наступила полночь — таков, извините, местный обычай.
И опять шагают они по тронутой осенним багрянцем пфальцской земле. Но волнения последних дней и бессонная ночь дают себя знать: Шиллер бледен, идет с трудом. В ближайшей роще пришлось сделать привал. Однако и тут опасность преследует их по пятам: юношей увидал охотник за людьми, вербовщик рекрутов. Но, взглянув в изможденное лицо задремавшего Шиллера, он, разочарованный, ограничился вопросом, кто они такие, на что Штрейхер отвечал односложно: «Путешественники!»
И вот, наконец, выплывают перед ними из сумерек старинные башни Франкфурта-на-Майне, города, где родился великий Гете.
В самый город из осторожности решили пока не заходить, а остановиться в предместье Заксенхаузен. Сразу же условились с трактирщиком о плате за ночлег и еду — денег оставалось так мало, что надо было рассчитывать каждую копейку.
Из окна комнаты виден мост через Майн. На мосту пешеходы, кареты, коляски. Все спешит, двигается, доносятся крики форейторов и кучеров, грохот сгружаемых ящиков — непривычный для Шиллера шум оживленного торгового города-порта, одного из немногих в тогдашней Германии.
Из Заксенхаузена Шиллер отправил Дальбергу письмо. Оно полно горечи. Нелегко было поэту преодолеть свою гордость и обратиться за помощью к человеку, в дружеском участии которого он уже сильно сомневался. И все же положение было таким безысходным, что Шиллер решился попросить у Дальберга небольшую сумму — аванс за пьесу «Заговор Фиеско», которую он обещал в ближайшее время закончить и сдать Мангеймскому театру.
«Ваше превосходительство, по возвращении в Мангейм, где я, к сожалению, не мог вас дождаться, верно, уже узнали от моих друзей обо всем, что со мной происходит. Выражение я в бегах исчерпывающе рисует мое положение. Но худшее еще впереди. У меня нет средств, необходимых для противоборства моей злополучной судьбе… Я покинул Штутгарт с опустошенным сердцем и пустым кошельком. Мне бы следовало краснеть от стыда, делая вам такие признания, но я знаю — они меня не унижают…»