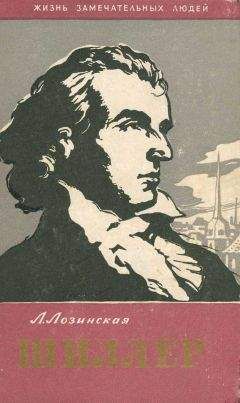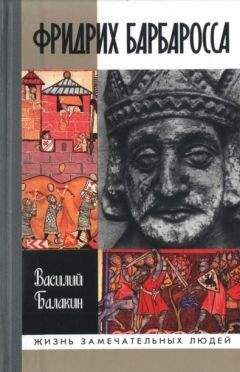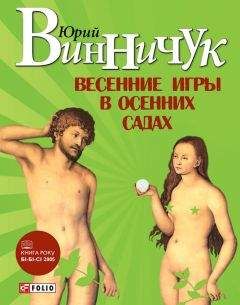Говоря о некотором сроке, необходимом ему для завершения «Фиеско», Шиллер скупо приоткрывает свое душевное состояние: «…Раньше чем через три недели я ничего не смогу представить театру; ведь мое сердце было так долго стеснено, а сознание того, в каком положении я нахожусь, далеко уводило меня от поэтических грез».
Особенно тяготило Шиллера то, что он не разделался еще со старым долгом за напечатание «Разбойников».
«Мне необходимо отослать в Штутгарт 200 флоринов. Должен вам признаться, это беспокоит меня куда больше, чем то, как буду я влачить свое существование. Я не успокоюсь, пока не почувствую себя в этом смысле чистым…»
В ожидании ответа Шиллер бродит по городу, где провел свое детство Гете и так ярко описал его позднее в «Поэзии и Правде». Вот они, «строгие и почтенные» улицы Франкфурта-на-Майне. Заальгоф — место, где, по преданию, был замок императора Карла и его наследников. Отсюда начинается старый ремесленный город с его тесной и грязной рыночной площадью, где не протолкаться сквозь толпу продавцов и разносчиков, и Варфоломеевской церковью, вокруг которой в базарные дни теснится толпа. По планировке города поэт знакомится с его беспокойной историей. Не случайно, конечно, появились все эти «многочисленные маленькие городки внутри города, крепостцы внутри крепости», которые привлекали внимание еще Гете-ребенка. «Ворота и башни, обозначавшие границы старого города, затем опять ворота, башни, стены, мосты, валы, рвы, которыми был обнесен новый город…»
Шиллер навещает книжные магазины Франкфурта.
«Я заходил в шесть книжных лавок, — пишет он одному из друзей, — спрашивал «Разбойников», и везде мне отвечали, что теперь уже не достать ни одного экземпляра и что их то и дело спрашивают».
Штрейхер рассказывает, что когда в одной из лавок молодой продавец начал особенно расхваливать распроданную драму и пытался было даже изложить
Шиллеру ее содержание, поэт не выдержал и, презрев всякую осторожность, раскрыл свое инкогнито. Долго в удивлении таращил лавочник глаза на бедно одетого, скромного юношу, который никак не вязался с его представлением об авторе такой дерзкой и шумной драмы.
И вот, наконец, на имя доктора Риттера получено письмо из Мангейма. Оно не от самого Дальберга — осторожный барон не хочет вступать в переписку с беглецом, он поручил Мейеру передать свой ответ: никаких авансов и задатков, «Фиеско» в его настоящем виде для театра не пригоден, разговоры о денежной поддержке исключены.
Когда Шиллер вернулся в Заксенхаузен, он уже владел собой. Штрейхер не услышал от него ни единой жалобы.
Вместе обдумали планы на будущее. Решили перебраться поближе к Мангейму, чтобы Шиллеру было удобнее работать над переделкой «Фиеско». От своего намерения ехать в Гамбург Штрейхер решил пока отказаться: он не мог оставить друга в такие тяжелые для него дни. Тайком от поэта он написал матери с просьбой выслать хоть немного денег, чтобы можно было протянуть, пока Шиллер не закончит «Фиеско».
На маленьком торговом судне через несколько часов добрались до Майнца. Осмотрели величественный собор, сооруженный в X столетии, один из древнейших памятников немецкого зодчества. Подкрепились чашкой кофе.
«Совсем недавно в Майнце, в соседней комнате, какие-то женщины толковали об авторе «Разбойников», — рассказывает Шиллер в письме к другу, — и высказали страстное желание повидать его, а я пил рядом с ними кофе…»
Но поэт боялся заводить знакомства. Надо было соблюдать еще большую осторожность, чем раньше, Опасаясь преследований, Шиллер даже в письмах к друзьям указывает неправильный обратный адрес, а иногда и нарочно дезориентирует относительно своих намерений. Кто знает, нет ли распоряжений герцога вскрывать его письма на родину?
Потому-то, пробираясь из Франкфурта в Мангейм через Майнц и Вормс (большую часть пути друзья снова проделали пешком), он пишет приятелю в Штутгарт:
«Все, кто хоть сколько-нибудь осведомлен о моей судьбе и моем замысле, в один голос советовали мне отправиться в Берлин; теперь я еду туда с отличными рекомендациями и получу еще много таких же, ибо мой путь лежит через Эрфурт, Готу, Веймар и Лейпциг, где меня отчасти уже знают по моим произведениям, отчасти же я себя зарекомендую имеющимися у меня письмами… Не исключено, что в Берлине я изменю свои намерения и при содействии некоторых важных лиц отправлюсь в Петербург. Само собой разумеется, что на службу я поступлю только в качестве медика… Мангейм, в сущности говоря, неподходящая для меня сфера. Он слишком мал, чтобы благоприятствовать мне как медику, и слишком бесплоден, чтобы дать мне взрасти как писателю. Взять на себя службу в театре? Но это не входит в мои намерения, да и вообще, какой в этом прок, — он очень оскудел, обеднял и все больше и больше приходит в упадок». А пока, заметая следы беглецов, это фантастическое письмо шло на родину поэта, сам он с верным Штрейхером вновь приближался к Мангейму.
И вот — городишко Оггерсгейм близ Мангейма, где из соображений безопасности решено было обосноваться; сырая комнатенка в захудалой харчевне при скотопрогонном дворе.
Поэт прожил здесь около двух месяцев.
Эти два месяца Шиллер провел в глубоком подполье. Он вторично меняет имя: теперь он не доктор Риттер, а доктор Шмидт; из дома он выходит чрезвычайно редко и только в темноте (первые восемь дней он вообще не покидал своей комнаты), почти ни с кем не разговаривает.
Быть может, двадцатитрехлетний беглец и не выдержал бы этого полутюремного режима, если бы не пришли ему на помощь две спасительные силы, верные спутницы его трудного жизненного пути, — творчество и дружба.
В Оггерсгейме, в бесконечные осенние вечера, когда под тихие звуки клавесина верного Штрейхера поэт шагал из угла в угол, погруженный в глубокую задумчивость, останавливаясь только для того, чтобы набросать несколько фраз на клочке бумаги, родился первый вариант лучшей из его юношеских драм — «Коварства и любви».
Работая над этой пьесой, Шиллер, подобно Шекспиру, имел в виду определенных исполнителей, создавал портреты и характеристики действующих лиц применительно к индивидуальностям актеров Мангеймского театра. Он заранее радовался, рассказывает Штрейхер, представляя себе, как хорош будет толстяк Бейль в роли честного грубоватого музыканта Миллера и как потрясут зрителей, именно благодаря контрасту с его комической внешностью, трагические сцены финала.
Шиллер писал увлеченно. Погрузившись в творчество, он забывал обо всем на свете. В эти часы вдохновенного труда он не был больше ни гонимым беглецом, у которого может не остаться завтра над головой даже ветхой крыши оггерсгеймского трактира, ни бедняком, живущим в долг. (Вот уже две недели, как кончились скромные деньги, присланные матерью Штрейхера, и на грифельной доске, висящей около буфетной стойки, хозяин каждый вечер педантично записывает, сколько проели господа Шмидт и Вольф.)