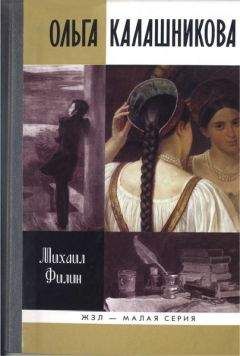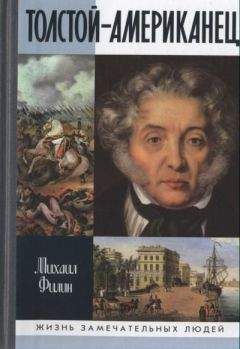Общаясь, они всеми способами таились от пытливых взоров, от длинных языков, временами шифровали или бросали в огонь какие-то документы, где-то многосмысленно темнили, иногда недоговаривали, даже блефовали и направляли доверчивого соглядатая или потенциального биографа по заведомо ложному следу.
Современники так и не сумели всласть посплетничать по поводу данного сюжета и ограничились только робкими и редкими догадками (вроде расплывчатого сообщения графа П. И. Капниста[170]).
То, что позднейшие исследователи наперебой создавали взаимоисключающие, подчас откровенно фантастические гипотезы и посмертно присвоили титул «утаённой любви» поэта доброму десятку женщин (возглавляемому августейшей особой), — стало доказательством победы конспираторов над любопытствующими.
Победы убедительной и долговременной — но, как теперь выясняется, не окончательной.
Дело в том, что защитные ресурсы хранителей амурной тайны были очень велики, однако всё же не безграничны. А пушкинистика бурно развивалась, постоянно искала и находила, накапливала и классифицировала материалы, прямые и косвенные, — и наконец собрала их в таком избыточном объеме, что получила шанс преодолеть некогда блестяще выстроенную оборону и проникнуть-таки в тайну. Обнаружилось непредвиденное: можно скрыть напрочь множество компрометирующих частных фактов — но их отсутствие будет с лихвой компенсировано одним-единственным глобальным Фактом, не поддающимся сокрытию вследствие причин, как говорится, объективных.
Мария и Пушкин упустили: под спудом бесконечно долго хранится едва ли не все — за исключением разве что бытия.
Пока научные данные о романтическом сюжете были фрагментарными, пока они не сложились в целостную систему, — двойная линия обороны стойко держалась (и обилие субъективных домыслов — тому одно из подтверждений). Однако обретенное пушкинистикой системное междисциплинарное знание обнажило стройную и — подчеркнем особо — безальтернативную логику минувшего: удивительные совпадения дат; тесную взаимосвязь происшествий и поступков героев с их произведениями, рисунками и письмами; знаковые синхронные реакции дуэта на поведение маргинальных персонажей, на изменения контекста и т. п.
Совокупность перечисленного и образует бытие, которое даже гениям не под силу похерить, перестроить на иной манер или загримировать до неузнаваемости. Этот строго расчисленный по хронологии, органично скованный в цепь суммарный «порядок вещей», касающийся Марии Раевской и Александра Пушкина, и был тем самым Фактом — аксиоматическим доказательством существования их «утаённой любви».
Ведь безальтернативность сюжета — шиболет, пароль его действительности.
Вышесказанное можно пояснить метафорически: когда кем-то комбинируемые мелкие клочки разорванной бумаги, содержание которой ранее никак не поддавалось восстановлению, вдруг (или не вдруг) располагаются так, что полностью совпадают своими рваными краями, когда из хаоса букв и слогов чудесным образом возникают слова, потом из слов — предложения, а в итоге рождается связный текст на прямоугольном листке — значит, это и есть искомый, преждевременно записанный в навсегда утраченные, Текст, и иного текста с другим смыслом на данном листке быть попросту не может.
Именно такой, по методике, операцией — регенерацией листка с текстом посредством совмещения имеющих все предпосылки совместиться бумажных обрывков — нам и предстоит заниматься в ближайших главах.
Прогнозируем и заодно страхуемся: полная и безупречная реконструкция «утаённой любви», вероятно, неосуществима в принципе, так как в этой истории, благодаря умелой тактике ее участников, всё-таки останутся лакуны, куда и впредь не проникнет свет системных исследований. Частичное утешение видится в том, что, уяснив «порядок вещей» в целом, мы всё же можем предметно размышлять и о неведомом, темном. К примеру, располагая авторитетными свидетельствами о двух несмежных эпизодах сюжета, допустимо, как представляется, осторожно моделировать приблизительное содержание и замолчанных промежуточных (исходя — повторимся — из того, что промежуточные эпизоды являются векторами единой сюжетной линии и вполне согласуются с общелинейной логикой).
Важнейшее значение в процессе реконструкции подлинных происшествий 1820-х годов приобретает «медленное чтение» художественных произведений Пушкина. Как уже говорилось, их ни в коем случае нельзя считать фотографическими воспроизведениями реальности. «Поэзия Пушкина, конечно, не есть безукоризненно точный и достаточный источник для внешней биографии поэта, которою доселе более всего интересовались пушкиноведы, — напоминал философ C. Л. Франк в этюде „Религиозность Пушкина“ (1933), — в противном случае пришлось бы отрицать не более и не менее, как наличие поэтического творчества у Пушкина»[171]. Другими словами, не надо абсолютизировать популярный у исследователей «автобиографический» метод (чем временами грешил, допустим, увлекавшийся В. Ф. Ходасевич) — надо иметь чувство меры и применять метод взвешенно и оправданно. Тогда он, не претендуя на «безукоризненную точность и достаточность», отчасти может быть продуктивен: ведь еще П. В. Анненков заметил, что в пушкинских стихах и поэмах «беспрестанно слышится живой голос события и, сквозь поэтическую призму их, беспрестанно мелькает настоящее происшествие».
Беря на вооружение эти теоретические афоризмы и обращаясь к «настоящим происшествиям», мы постараемся также помнить другое — преподанный «первым пушкинистом» еще в XIX веке впечатляющий урок деликатного отношения к чужим сердечным переживаниям.
О встрече Марии Раевской с поэтом в Одессе осенью 1823 года почти невозможно судить по сохранившимся эпистолярным источникам. Опубликовано ее тогдашнее письмо к брату Николаю — однако в нем нет ничего о Пушкине. Известны послания лиц, жительствовавших в те месяцы в приморском городе, но и они, мельком касаясь нашей героини, мало что добавляют к рассматриваемой теме[172]. Немотствуют и мемуарные свидетельства современников, которые не приметили ничего замечательного. Посему все надежды биографа связаны с пушкинскими рукописями — благо те довольно умело разобраны и описаны текстологами.
Правда, при сосредоточении нашем на бумагах Пушкина Мария Раевская неизбежно отойдет — конечно, только на время — на второй план.
Итак, он жил тогда в Одессе…