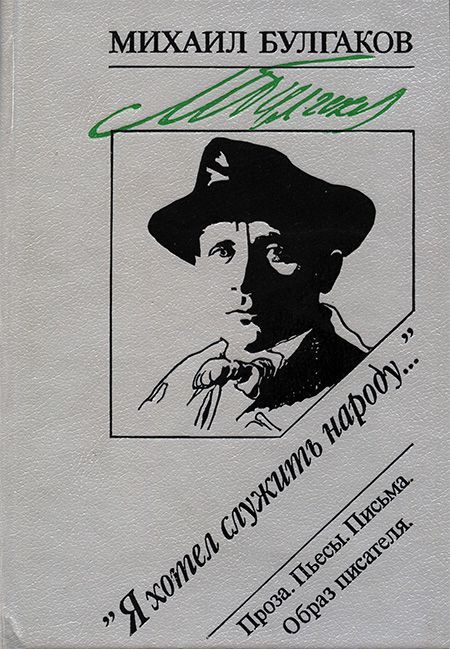поставлен? Что тогда?..
Да, собственный смех Булгакова совсем иной школы (об этом точно сказал, рецензируя роман в «Сибирских огнях», О. Михайлов — 1967, № 9). И дело не в том только, что он отмечает уровень смеха-глумления, а в его положительной силе: новом продолжении тех ценностей, которыми держится жизненная связь.
Силу этой идеи Булгаков доказал как будто и своей писательской судьбой.
К однотомнику «Избранной прозы», почти совпавшему с выходом романа, приложен его портрет. Впечатление то же. Такое лицо могло быть у инженера и летчика, вроде того, что было нарисовано на довоенной синей пятирублевке, — человек, который не потеряется в любом из дел. Он и писал: «Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1 Художественный театр… Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — то прошусь на должность рабочего сцены». Можно не сомневаться, что на каждом из этих мест он был бы со своей фантазией и верностью тому, за что взялся, потому что, как он говорил: «Я очень много думал… может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может».
То есть иных способов стать писателем ему было не нужно, так как он был им. А трудности своей судьбы он умел преодолевать. О многом говорит то место в его «Театральном романе», где к герою, тоже писателю, обращается один, считающийся его другом, коллега: «Ну, что ж, — вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов, — поздравляю. Поздравляю от души. И прямо скажу — ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно».
Стоит спросить себя, кто герой этого «невозможного» романа. Это остается проблемой, несмотря на ясное заглавие, потому что положительная идея автора явно не желает связывать себя каким-нибудь одним именем и выражает главное в отношении. Однако и выражая, очевидно, тоже колеблется, то приближаясь, то отдаляясь от каждого и постоянно заставляя задумываться, ради кого же разворачиваются все события романа, для кого, собственно, из действующих там лиц он написан.
Для Иешуа? Может быть. Но ведь он вряд ли нуждается в этом. Иешуа нужен роману, но не роман — Иешуа. Он далеко, слишком, хотя и подчеркнуто реален. Реальность эта особая, какая-то окаймляющая или резко-очертательная: ведь нигде Булгаков не сказал «Иешуа подумал», нигде мы не присутствуем в его мыслях, не входим в его внутренний мир — не дано. Но только видим и слышим (это, конечно, исключительно сильно), как действует его разрывающий пелену ум, как трещит и расползается привычная реальность и связь понятий, но откуда и чем — непонятно, все остается в обрамлении. Мы видим только раму окна, но не то, что внутри, где слишком светло: «на правду да на солнце во все глаза не глянешь». Реальность этого образа, несмотря на всю его бытовую яркость, остается поэтому в особых границах — как попытка проверить, что бы было, если бы он был реален, и что бы тогда произошло в реальности — от вторжения высшего. Булгаков с честью выдержал встречу с этой глубиной, но Иешуа, наверное, все-таки не его герой, а только то, что можно было бы при подобном высоком предположении в жизни увидеть.
Мастер? Это не исключено, хотя не следует, по-видимому, думать, что писатель полностью на его стороне или хотел бы им быть. Не о мастерстве и не ради мастерства написан роман. Очень близко, может быть, к этому, но все же через спасительное «чуть-чуть», отгороженное иным взглядом. Это Мастер, а не М. А. Булгаков, натягивает на себя серьезно шапочку с вышитым «М», [117] для Булгакова, к счастью, мастерство не было проблемой; его книга выделяется среди прочего и этим в самоисследующей литературе XX века. Не «роман в романе», демонстрирующий технический класс (обезьянство стилей, не забудем, отдано дьяволу), и не величественные раздумья о судьбах искусства, но что-то жизненно необходимое, еще не решенное, как раздвигающиеся полюса одной идеи, в центре которой — Россия.
Но если это так, то рискнем высказать предположение, что обращен роман все-таки больше всего к тому, над кем автор долго и неутешительно смеется, — к Ивану Николаевичу Поныреву, бывшему поэту Бездомному. Едва ли не для него разыгралась вся эта история Мастера и Маргариты.
Подумаем: он единственный по-настоящему развивается в этой книге. Переменился он иначе других. «Бездомный», конечно, есть не просто псевдоним, но надетое на него кем-то имя, на шальную голову нашлепнутый колпак, в котором он и бурчал свои «поэмы», пока не начал, хотя и не твердо, соображать. История романа развертывается, в сущности, для него, потому что он один сумел извлечь из нее для себя что-то новое, чему-то научиться, — факт, невидимый сразу, но едва ли не самый значительный.
«Прощай, ученик», — целует его Мастер и исчезает. Напрашивается почти сама собой разумеющаяся мысль, что ученик тоже будет Мастером, допишет роман… Ничего подобного. Его учитель когда-то ушел из историков в художники, покинул все и ото всего себя развязал; Иван — едва ли не наоборот. Он возвращает себе собственное имя и от Бездомного начинает понимать, что существует дом, свое, через дом соединяющееся с общечеловеческим — с историей, которую он избрал себе специальностью («сотрудник Института истории и философии», — сказано там), что есть народ в этой истории, составивший и создающий его имя среди бесчисленных других, словом, есть то растущее целое, которое не в силах разложить никакие Коровьевы и Воланды.
Понятно, что этот переход едва намечен. Он и не мог быть иным. От превращения Бездомных в Поныревы слишком многое зависит, чтобы автор мог отнестись к этому несерьезно; только беглые точные подробности, почти закрытые их смешным значением, выдают, если присмотреться, первые шаги «нового Ивана». К тому же, если представить себе, сколько раз еще встретит его на этом пути Берлиоз (или «другой», как говорится в романе, «красноречивее прежнего»), то обольщаться насчет быстрого преодоления им трудностей не придется. Но после того, как Булгаков так убедительно раскрыл смысл отношений этой пары и не менее убедительно показал, что ей суждено разойтись, многие сложности дальнейшей его дороги не выглядят такими уж темными или неразгаданными. Хотя желания одной стороны («поэта больше не трогала судьба Берлиоза») тут, как известно, еще не все, да и предложения могут быть совершенно новыми.
Вскоре, как вышел роман, было одно его обсуждение, где говорили массу интересного, и среди прочего — в выступлении взволнованном, произносимом в лучших побуждениях, гражданском — приблизительно так: «Толстой и Достоевский, интеллигенты — писали в русской литературе о народе. Но