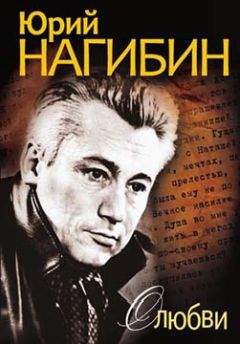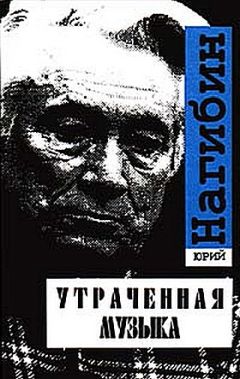— Моя хата, — с улыбкой сказал Игорек.
Он был чуть выше среднего роста, плотный, с правильными, незапоминающимися чертами лица и пластичными движениями. Было приятно смотреть, как он собирает на стол, — их приход застал его за этим занятием. Инесса тут же принялась помогать. В гнедом шерстяном, туго обтягивающем платье, с могучим крупом и крепкими ногами, Инесса наводила на мысль, что кентавр не обязательно мужского пола.
И было досадно за суматоху на ее лице, так противоречившую гармонии мощной стати: серо-голубой глаз резвился в гнезде, наделяя хозяйку то лукавством, то веселой дерзостью, то горестной обидой. Приходилось одергивать себя, чтобы не отозваться на непроизвольную смену выражений Инессиного лица.
— Инеска — сила! — доверительно шепнул Игорек, когда та вышла зачем-то на кухню, где хозяйничала Таня.
— Сила! — подтвердил Петров.
— Жаль, не хочет глаза исправить! — вздохнул Игорек.
— Почему?
— Боится, что на слухе скажется. Слух ее кормит.
— А какая связь?
— По-моему, никакой. Но попробуй убеди ее!
Петрова попросили открыть бутылки, после чего освободили от всех обязанностей. Его донельзя удивила изобильная закуска. Он успел забыть, что такое бывает на свете: копченая колбаса, ветчина, швейцарский сыр, баночка сардин. В Нинином доме со дня объявления войны стали готовить на касторовом масле, хотя залавки ломились. Они же с матерью жили на одну «служащую» карточку, продаттестат никак не удавалось оформить.
— Где мы и когда мы? — сказал Петров. — Может, война нам только снилась и сейчас мы проснулись?
— Я сам ничего не понимаю, — поддержал Игорек, — откуда девчонки раздобыли такой харч!
— Кочумай! — сказала Инесса, что на музыкальном языке означает: помалкивай.
Игорек поставил пластинку.
Ночью в одиночестве безмолвном
Помни обо мне, —
взмолился рыдающий голос Кето Джапаридзе. Петров пристально смотрел на кончик папиросы. Войны нет, казалось ему, и он еще ничего не знает о себе. Не знает, что даст уйти врагу, столкнувшись с ним глаза в глаза, что даст уйти любимой женщине, не столкнувшись с ней глаза в глаза, не знает, что счастье вовсе не обещано ему от рождения, да и много другого, о чем только начинает догадываться сейчас.
Если мы расстанемся с тобою,
Помни обо мне.
Если будешь счастлив ты с другою,
Помни обо мне.
А ужасно, если так и будет на самом деле, откликнулся он певице. Какое же это счастье с другою, если все время помнишь о прежней. Да и вообще, что это за состояние такое — быть счастливым? Сейчас ему кажется, что в дни Нины он все время был счастлив. Но разве ощущал он это счастье так вещно и так неотрывно, как нынешнее несчастье — из часа в час и из минуты в минуту? Конечно нет! Было счастье близости, а в остальное время внутренняя свобода, когда он был открыт всей полноте жизни и внутри этой широкой внешней жизни мог испытывать любые чувства: гнев, горе, ненависть, даже влюбленность. О несчастье помнишь все время, о счастье же, когда оно есть, забываешь. Ладно, хватит мерехлюндий! Он не сумел бороться за женщину, так будет бороться против женщины, тем более что у него оказался такой сильный союзник, как спустившаяся с неба в должном месте и в должный час Таня.
…Петров помнил, что, слегка захмелев, пытался выразить Тане свою благодарность, но она сказала как-то очень серьезно:
— Не надо. Прошу вас, не надо.
— Мне хочется, чтобы вы поняли, насколько…
— Я очень, очень прошу, — сказала Таня.
Он был так уверен, что не заслуживает копченой колбасы и швейцарского сыра, теплой печки и доброго отношения, что, наверное, не внял бы и этому предупреждению, но тут Инесса запела сильным, носовым, подчиненным безупречному слуху голосом, аккомпанируя себе на стареньком пианино:
Жили два товарища на свете,
Хлеб и соль делили пополам,
Оба молодые, оба Пети.
Оба та-ра-ри-ра, та-ра-там!..
Инесса знала много смешных песенок и душещипательных романсов, лучше которых ничего нет, когда так нужно короткое забытье, — и тут бессильны Бах и Моцарт, Бетховен и Брамс, тут на вершине «Полонез» Огинского, а внизу цыганщина и «жестокие» романсы.
Бывают в жизни встречи,
Любовь лишь только раз,
Я в тот далекий вечер
Любил безумно вас… —
пела Инесса, закидывая назад голову, и лицо ее с закрытыми глазами было скульптурно красиво.
— Эх, Инеске бы полипы вырезать, как бы она пела! — влюбленно шепнул Игорек.
— Почему она не вырежет?
— Боится слух потерять.
Тут Петров спохватился, что подобный разговор уже был, и не стал спрашивать, какая связь между слухом и полипами…
Петрова удивляло, что его появление в этой дружной компании не вызывает ни малейшего любопытства. Ни Инесса, ни Игорек ни о чем его не спрашивали, не наблюдали исподволь, что было бы вполне естественно, не пытались проникнуть в суть их с Таней отношений. И ведь он был как-никак человеком с войны, но и о войне не упоминалось. Лишь Игорек вскользь обмолвился, что ему надо идти на очередное переосвидетельствование. У этого спокойного, добродушного парня не было проблемы амбразуры. Петров догадывался, что за деликатностью его новых знакомцев стоит жесткий приказ: оставить человека в покое! Он даже слышал интонацию Таниного тихого, немного сипловатого, когда вполшепота, и серебристо-ясного, когда с нажимом, голоса, каким она отдавала команду друзьям. Большая, фигуристая, щедро озвученная Инесса была в подчинении у своей хрупкой подруги, в радостном подчинении, что чувствовалось сразу, хотя и не найдешь тому явных доказательств. Так подчиняются не силе, не более активному, целеустремленному характеру, а высокому чину душевного благородства. Но приказ приказом, а все же Таня должна была как-то объяснить его своим друзьям. Вернее, определить свое к нему отношение. Подбитый войной человек, неудачник в личной жизни — отличная точка приложения рычага жалости. И, уважая Танину сострадательность, они ведут себя с ним осторожно, как с больным. Это немного грустно, немного скучно и немного противно. Стоп! Таня не сделает ничего противного, тайно унижающего человека. Конечно, она могла сказать своим друзьям: не докучайте ему, дайте спокойно провести вечер, и все — она же не любит ничего предварять словами. И при чем тут жалость? Когда-то она помогла ему выплыть, но спасение на водах не ее специальность. Сейчас ее рука вновь протянулась к нему, но она не сестра милосердия. Ее тонкое тело полно силы и грации, в ней все — прямота и смелость. Так что же тогда?.. Верно, недоуменное чувство отразилось на его лице, потому что Таня спросила сквозь отчаянное фортиссимо Инессы: