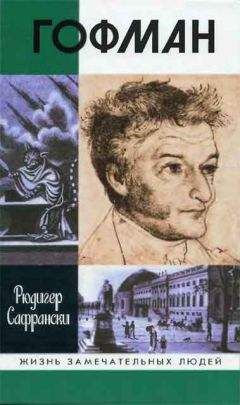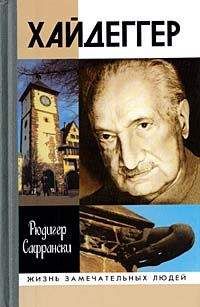Унаследовав имение и титул, Гиппель сразу же взвалил на себя сословно-политические обязанности, став депутатом от рыцарского сословия Западной Пруссии, и в этом качестве присутствовал на коронации Фридриха Вильгельма III.
Итак, дела у друга складывались наилучшим образом, когда дождливым и ветреным апрельским вечером Гофман остановился у дворца Личен, где жили родители невесты Гиппеля и где сам он в то время находился. Гофман стоял на наружной лестнице ярко освещенного дворца и просил вызвать Гиппеля. Быть может, именно в этот момент он с неумолимой ясностью осознал наличие непреодолимого сословного барьера. Он пребывал в смущении. Гиппель просил его остаться хотя бы на несколько дней, но Гофман отказался, сославшись на то, что очень спешит. Гиппель хотел бы по крайней мере представить ему невесту, но Гофман отказался и от этого. Еще минут десять друзья стояли под дождем на наружной лестнице, и им нечего было сказать друг другу. Гофман торопливо попрощался.
Эту злосчастную встречу Гиппель позднее описывал с олимпийской невозмутимостью, граничащей с полным непониманием: «Мелочная робость… овладела Гофманом». На самого же Гофмана эта сцена подействовала удручающе. Сначала он пытался передать ее в выражениях сентиментальной дружбы. В первом письме после этой встречи он пишет: «После нашего романтического свидания в Личене на дворцовой лестнице я пребывал в приподнятом настроении на протяжении всей оставшейся поездки» (10 мая 1797). Однако долго обманывать фикцией «романтического свидания» он не мог ни себя, ни своего друга. Уже в следующем письме, от 27 июня 1797 года, он представляет ситуацию совсем иначе: «Когда мы вечером проезжали мимо, я подумал, что, может быть, застану тебя в Личене, благо все окна были ярко освещены, но вдруг мужество изменило мне, и я не осмелился представить тебе в разгар веселья автора сего письма». При виде ярко освещенного дворца и молодого обладателя майората, в котором он более не узнавал близкого друга, поверенного его душевных тайн, Гофмана охватил стыд. В частности, стыд за откровения в недавнем письме (от 10 мая 1797), в котором он писал другу: «Я пропал из-за условностей, обстоятельств, из-за самого себя. Прошлое было лучше настоящего, а о будущем я не могу даже и думать — любое представление о нем ненавистно мне. Ты более не свободен — от тебя я не жду больше ничего».
Встреча в Личене с неопровержимой ясностью показала Гофману, что друг, с которым он состоит в переписке, представляет собой почти что литературную фикцию, персонажа сентиментальной игры, мнимую реальность, не имеющую ничего общего с реальным человеком на ярко освещенной лестнице дворца. Идентичность воображения и социальной реальности разбивается в этот ветреный апрельский вечер. Гиппель, как он пишет в своих воспоминаниях, понял мнимый характер этой дружбы гораздо раньше. Он говорит о «тоске» Гофмана по «идеалу дружбы». И далее: «Не довольствуясь тем, что сам создал этот прообраз, он раскрашивает его своей пылкой фантазией в самые изысканные цвета. Тем самым он хотел бы и перед самим собой оправдать безоглядное благоговение, с каким он возносит свое собственное творение на свой домашний алтарь. Друг же, по крайней мере, всегда был достаточно непритязателен, чтобы рассматривать этот ранг не как свое собственное, а как Гофманово творение и достояние».
На лестнице дворца Личен Гофман переживает «приют дружбы» как «творение» собственного воображения, жестоко растрепанное не только апрельским ветром, но и самой социальной реальностью.
После свидания в Личене письма Гофмана сначала приобретают умоляющий тон, поскольку друг отмалчивается в течение нескольких месяцев, а затем становятся более педантичными, проникнутыми сомнением и даже более тактичными. Гофман уже не уверен в друге, он сомневается в его способности понимать; недоразумения теперь уже не исключены. Блестящий социальный мир, в который ушел от него друг, делает последнего непредсказуемым, отчужденным, возможно, даже холодным. Теперь Гофман должен взвешивать каждое свое слово, и порой ему кажется, что было бы лучше, если бы он не сказал того или иного. «Что ты подумаешь, — пишет он 29 августа 1797 года, — если со спокойной холодной рассудительностью прочтешь мое письмо и найдешь в нем высказывания, идеи, невольно вырвавшиеся у меня, которые мне не следовало бы выражать».
Равенства между друзьями больше нет, общественно-сословная пропасть все больше и больше разделяет их, и лишь когда Гофман пребывает в добром расположении духа, он обретает порой способность шутить по этому поводу — так, однажды он назвал себя «придворным композитором» и «придворным поэтом» Гиппеля.
Отчуждение между друзьями усиливает и предубеждение Гофмана в отношении мира политики.
Политическая жизнь, в которую Французская революция вдохнула новую энергию, и прежде не особенно интересовала его. Вспоминая о совместных студенческих годах, Гиппель пишет: «Особенностью Гофмана в то время было также, что он никогда не говорил о религии, политике или властях, хотя Французская революция давала тогда богатый материал на эти темы. Как правило, он прерывал разговор, начинавший уклоняться в эти неприятные для него области, и один вид газетного листа был ему до того неприятен, что им можно было прогнать его».
Свобода, равенство и братство открывались для него в искусстве и одержимом искусством дружеском союзе. Здесь он создавал для себя пространство свободы движения, перемен, приключений; здесь происходило великое отчуждение; здесь можно было отважиться заглянуть за пределы существующего; здесь довольно было возбужденной суматохи, в которой открывались тайны, и последние становились первыми. Не в языке политики, а в языке искусства он чувствовал себя связанным с целым; здесь соединялось для него внутреннее с внешним, прочее же ужималось до второстепенных условий, которые надлежало принимать в расчет таким образом, чтобы по возможности экономить собственные силы. Ему нечего было делать в мире политики, и он самым решительным образом противился тому, чтобы политика обрела власть над ним. Позднее ему доведется познать на собственной шкуре, что можно оказаться втянутым в политику именно потому, что пытаешься воспротивиться ее власти над собой. Пока же его позиция носит исключительно оборонительный характер: политика и душа должны быть отделены друг от друга.
Эта позиция не только выражает индивидуальную жизненную стратегию; в ней проявляются также нормы поведения прусского чиновничества, той общественной среды, из которой вышел Гофман. Прусское чиновничество еще и в XIX веке рассматривало себя как неполитическую «машину» для достижения политических целей, намечать которые имеет право только государственная верхушка. Как составная часть государственного аппарата, чиновничество хорошо усвоило позднеабсолютистскую идею монополии на проведение политики.