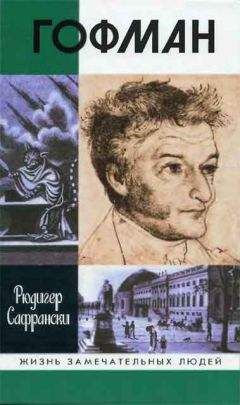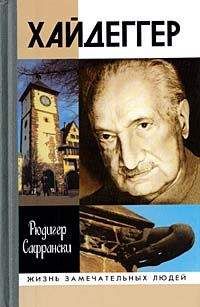Несмотря на отчуждение, возникшее в Личене, Гофман усердно писал своему другу в течение всего лета. Ему надо было высказаться о своих надеждах и своих печалях. Однако Гиппель упорно молчал на протяжении семи месяцев. До середины февраля 1798 года от него не пришло ни одного письма. В этот период Гофман принимает важные решения.
Сетования Гофмана по поводу «убийственной скуки» и «ощущения пустоты» имеют своей причиной не только любовное томление, но и то обстоятельство, что он замечает в себе спад творческого вдохновения. Сначала он, видимо, забросил литературу. Надо сказать, что несмотря на возврат издателем своего первого романа «Корнаро», Гофман тут же приступил к реализации проекта второго романа, получившего название «Таинственный». Однако в Глогау дело застопорилось. Этот второй роман он так и не закончил. Музыка на время опротивела ему, поскольку нестерпимо напоминала о несчастной любви к Доре. Иоганнес Хампе, который был несколькими годами старше его и с которым он подружился («единственный здесь, кто не счел за труд привязаться ко мне» — письмо от 29 августа 1797 года), постарался, чтобы Гофман не был потерян для музыки. Однако и этот его друг, таможенный чиновник, сочинявший музыку в часы досуга, скорее упрочил представление молодого Гофмана о самом себе как о дилетанте.
Гораздо более увлеченно Гофман занимается в Глогау живописью. Стимулом к этому послужило знакомство с миниатюристом Алоизом Молинари, который, правда, уже в начале 1797 года покинул Глогау. Молинари, на четыре года старше Гофмана, был весьма импозантен. «Прекрасно сложенный, точно ватиканский Аполлон» (письмо Гиппелю от 22 января 1797 года), этот уроженец Берлина со своими иногда «зловеще» сверкающими глазами и черными курчавыми волосами напоминал таинственного колдуна из южных стран. Гордый, подчас даже высокомерный, он притягивал к себе женщин. Его репутация была небезупречна. «Человек, которого я зачастую идеализировал», — писал о нем Гофман (22 января 1797). О том, какие фантазии он будил в Гофмане, можно судить по рассказу «Церковь иезуитов в Г.» (1816). Там Гофман рассказывает историю темпераментного художника, который встречает воплощение женского идеала своих картин и предается плотской любви с этой женщиной, производит с нею на свет ребенка, заводит домашний очаг, но потом замечает, что художественное вдохновение покидает его. Он оставляет жену и ребенка, причем остается не вполне ясным, не убил ли он их обоих. Жалким художником, предлагая свои услуги по росписи стен, он кочует по стране, своей замкнутостью и грубым цинизмом заработав репутацию сумасшедшего. Еще один раз удается ему великое творение, алтарный образ, после чего он навсегда исчезает. Полагают, что он покончил с собой. Рассказчик встречает этого художника в церкви иезуитов в Г. По намекам становится ясно, что имеется в виду Глогау. Гофман и на самом деле участвовал — возможно, под руководством Молинари — в росписи церкви иезуитов в этом городе.
Молинари воплощал собою тип демонического художника, которому сильная чувственность не дает покоя. Быть может, Гофман учился у Молинари не только живописи; не исключено, что этот страстный человек ввел молодого судебного следователя и в искусство чувственных наслаждений. На это указывают в письмах Гофмана несколько хвастливые намеки на «роковые» наслаждения и развлечения; об этом же свидетельствует и то обстоятельство, что Гофман после отъезда Молинари сразу же сдружился с Юлиусом фон Фоссом, еще одной личностью с сомнительной репутацией. Фосс был в 1795 году переведен в порядке наказания в чине младшего лейтенанта из Торна в Глогау. Он впал в немилость у своего начальства собственными проектами реформ в военной области. Фосс был известным в Глогау повесой, наделал долгов, вероятно, благодаря азартным играм, имел несколько любовных интриг. Он пробовал себя в качестве любителя во всех видах искусства — рисовал, сочинял музыку и писал. После ухода с военной службы Фосс целиком посвятил себя писательству, сочиняя романы и комедии и участвуя своими памфлетами в дебатах по военно-теоретическим вопросам. Гофман в свой последний берлинский период возобновил отношения с этим ставшим к тому времени уже весьма знаменитым автором. В Глогау же Фосс был известен лишь своей распутной жизнью. «Одурманивание, чувственное одурманивание было единственным моим спасением», — писал Фосс, оглядываясь на годы, проведенные в Глогау. Сколь активно Гофман участвовал в этом «чувственном одурманивании», нам не известно доподлинно, однако весьма показательно, что о своем общении с Фоссом он не обмолвился добропорядочному Гиппелю ни единым словом.
Где-то в конце 1797 года Гофман принял четыре жизненно важных для себя решения. Первое касалось друга, уже давно не дававшего о себе знать. В январе 1798 года он послал ему несколько сердитых строк, которые впоследствии «стоили ему бесконечных упреков». Гиппель не опубликовал это письмо — вероятно, Гофман объявил в нем о прекращении дружбы. Поскольку Гиппель впоследствии все же писал ему, их отношения кое-как наладились.
Второе решение касалось Доры. Он окончательно порывал с нею, что и подкрепил третьим решением: в январе 1798 года обручился с кузиной Минной, в одном доме с которой жил уже полтора года.
Его четвертое решение, совершенно очевидно, связано с помолвкой: он намеревается как можно скорее закончить стажировку и серьезно посвятить себя профессиональной карьере.
Реализация двух последних решений должна была позволить Гофману стать тем, кого в его буржуазном окружении называют «солидным» человеком. Он на пути к заключению брака по расчету, ибо в кузину не влюблен. В его письмах Гиппелю нет и намека на ту страсть, которую вызывала в нем Дора. Весьма примечательно, что Минна всегда упоминается в связи с охватившим его усердием на юридическом поприще. Создается такое впечатление, будто она является для него неотъемлемой составной частью канцелярской пыли, которую он собирается впредь глотать. Первое косвенное упоминание о помолвке содержится в письме от 25 февраля 1798 года: «Обстоятельство, о котором я пока что специально умалчиваю, чтобы тем больше писать о нем впоследствии, служит единственной причиной, по которой я все еще здесь и столь усердно занимаюсь юриспруденцией». Спустя месяц, 1 апреля 1798 года, он выражается яснее: «Ты же знаешь, что для меня, как для Йорика, паузы имеют фатальные последствия. Теперь я связан не меньше, чем прежде, но теперь причиной тому девушка. Я с поразительным усердием изучаю сухую материю, похоронил себя в судебных делах».
Что же происходит с Гофманом? Он замечает, что его опыты на художественном поприще не слишком успешны. Развлечения с Фоссом также не приносят ему длительного удовлетворения. Процесс его профессиональной подготовки в области юриспруденции застопорился — уже давно бы следовало ему сдать второй экзамен на должность. Разрыв с Дорой свершился, однако рана все еще болит, поскольку этот разрыв унижает его достоинство: он вынужден чувствовать себя неудачником. Теперь он собирается начать все с чистого листа, чтобы двигаться дальше.