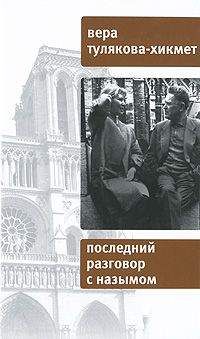А у тебя было благодушное настроение. Ты шутил, смеялся. Рассказал, как только что в Стокгольме захотел за обедом поесть телятины. Но тупой официант ни черта не понимал ни по-турецки, ни по-русски, ни по-французски. Тогда ты приставил к вискам пальцы как рожки и замычал: «Му-у-у? Му-у-у?»
– Немножко громко получилось, не рассчитал, – говорил ты с улыбкой. – Но парень закивал головой и через минуту принес стакан молока.
Наконец мы вошли в мой темный двор на Русаковке. Сухой ранний мороз прикрыл землю инеем, как марлей. От боли появилось ощущение слепоты, видно, так сыплются искры из глаз. Я торопливо рассталась с тобой, и, едва ты отошел, потеряла сознание, рухнула на землю. Очнувшись, открыла глаза и увидела перед собой твое испуганное расплывающееся лицо. Только тут я призналась, в чем дело. Ты был потрясен. Сорвал туфли и зашвырнул их подальше. Стал натягивать мне на ноги свои перчатки, но величайшим счастьем было держать ступни на подмерзшей земле.
Я шла по двору босая, кошмар пытки отступал. Ты понуро брел сзади. Я обернулась к тебе у двери и весело сказала «Му-у-у! Му-у-у!»
– Да, миленькая, – грустно ответил ты, – пока мы здесь можем только мычать, черт побери! А капиталисты там эксплуатируют конечно, но при этом делают для людей хорошую обувь и, ей-богу, сносную жизнь.
Ночью потолки опускаются прямо на глаза, и изо всех углов выползает темень, тяжелая, как повидло. Улица умолкает. Засыпают соседи в своих нескучных постелях, а со мной коротает ночь испорченный звонок над дверью. Он свербит с такой садистской неотступностью, которая, как свист в ушах, как раскаты головной боли, как детский плач, не уходит, не умолкает, проникает в мой сон и в мое пробуждение. Можно пойти и перерезать провода. Но зачем? Можно же все выдержать. Всё!
Однажды летним вечером раздался звонок: «Ответьте Берлину!» – приказала телефонистка. И ты мне сказал:
– Гюзелим, кызым, гюлюм, бертанем, Веруся моя! Как поживаешь, милая, хорошенькая моя, москвичка моя, редакторша?!
– Уезжаю, – сказала я, – в отпуск. К морю.
– Вот как, значит, уезжаешь…
– Да, Назым.
– Очень устала?
– Устала. Хочется отдохнуть.
– Остаюсь без твоего голоса. Это тюрьма…
– Ничего, время летит быстро, не успеете оглянуться, как месяц пройдет, и я вернусь. А вы собираетесь в Москву?
– Я торопился, уже билет заказал, а теперь, что я там буду делать без тебя… Ты не забудешь меня?
– Нет.
– Ты уверена?
– Уверена, Назым.
– Спасибо. Хорошо, миленькая, отдыхай, но очень хорошо отдыхай! Очень, понимаешь?
– Постараюсь, но почему вы так настаиваете?
– Надо, милая. Увидишь. Я привезу тебе белое платье.
– Что я буду с ним делать? – рассмеялась я очередной выдумке Назыма.
– Послушай, ты не маленькая. Что делают все невесты в белых платьях? Выходят замуж.
– Все это со мной однажды уже произошло. Правда, платье было голубое.
– Ничего, ничего, готовься…
Я поняла, что тоска довела тебя до отчаяния. Ты говорил о невозможном. У меня была семья – дочь, муж, близкий добрый человек. В нашей киношной среде все любили его за бурный открытый характер, за благородство и ироничный ум. Я бесконечно уважала его, восхищалась глубоким знанием литературы, профессионализмом в кино, хотя с тех самых пор, как между нами поселилась ложь, мы перестали быть товарищами. Среди нас троих он один жил честно и потому был лучше. Мне становилось неловко за тебя, Назым, когда ты приходил к нам в дом и шел к нему с распростертыми объятиями, называл братом. Я видела, как ты прячешь глаза от открытого взгляда моего мужа, как искусственно стараешься быть самим собой, и фальшь тебе плохо удается.
Мне жутковато было наблюдать вас рядом тогда – двух хороших людей, которые все друг про друга знали. Один хотел украсть, а другой глазами иногда спрашивал меня: разве ты не видишь, что твой герой нечестный человек? Неужели тебя это не останавливает? А я? Я все видела, все понимала – и любила вора. Я его соучастница. Я – его.
Я бегу от тебя, я спасаюсь. В южную деревню Архипо-Осиповку к старой Татьяне в дом. Как хорошо там, как тихо. Мы с Раисой кормим хозяйкиных кроликов травой, ходим к морю вчетвером. Мы отдыхаем с мужьями. Мужчины идут впереди, мы сзади. Мы идем. Тихо говорим, почти не о тебе. О тебе невозможно, всё, предел.
Скоро к нам приедет Вольпин с женой, соберется большая киношная компания московских друзей. И никто, ни один человек не знает, как я живу на самом деле, с какой скоростью я лечу в тартарары… Я падаю, я задыхаюсь, я гибну. Двадцать четыре рабочих дня и четыре выходных нас будет объединять праздная лень, наш отпуск. И за это время я соберусь с силой, я обязательно соберусь и, наконец, скажу: «Нет! Нет! Нет!»
Идут дни. Мы с Раисой лежим на пляже, уткнувшись в песок лицами. Почти у пяток плещется теплое море. Вокруг нас такие же, как мы. Мы лежим и молчим. Я вполуха слышу, как рядом со мной мужской голос восторгается:
– Смотри, какая шикарная машина!
Я не поднимаю головы. Мне безразлично, вся моя жизнь бьется внутри. Шум нарастает. Вокруг нас все начинают обсуждать какую-то двухцветную машину. И вдруг Раиса то ли испуганно, то ли изумленно вскрикивает:
– Веруська, смотри, Назым приехал!
Я поднимаю голову и вижу: в пятидесяти шагах прямо против меня стоишь ты, облокотясь на открытую дверцу своей двухцветной «Волги», и пытаешься кого-то отыскать среди сотен тел. Я не верю своим глазам, я не радуюсь. «Какой ужас! – думаю я. – Какой ужас!»
Помнишь, Назым, как ты испортил всем отпуск?
Наша бездумная босая жизнь кончилась. Твои транзисторы, кинокамеры, какие-то штуки-дрюки и само твое присутствие все осложнило, все до крайности напрягло. Вокруг тебя суета. Дамы меняют туалеты, мужчины сооружают тенты над твоей головой и пятками. Конкурсы красоты и состязания интеллектов. На пляже твоей врачихой брошен лозунг: «Ни один сантиметр кожи Назыма не должен подвергаться солнечному облучению!» Солнце палит. А ты весь замурован. Лежишь в бежевых плисовых брюках, рубашке пижонской, в носках, в мокасинах. И такой ты нелепый на этом голом деревенском пляже, такой хворый, несмотря на всю свою веселость и бодрость. Ты мучаешься. Не можешь привыкнуть к моим голым рукам, ногам и спине. Даже несколько лет спустя, когда мы стали жить вместе, ты, увидев фотографию пляжа в Архипо-Осиповке, где я в купальнике, а ты рядом под тентом, взял ножницы и отрезал нижнюю часть, чтобы никто не увидел меня такой. Тебе кажется, что все смотрят только на меня. Ты хотел бы всем завязать глаза, всех подозреваешь в чем-то недозволенном, неназванном. Тебе плохо, Назым, я это вижу. Но что я могу для тебя сделать? Мне и самой не лучше. Я хочу быть от тебя подальше, чтобы никто ничего не заметил, мне так от всего этого неловко. Мне так худо! А ты мне не помощник. Каждую минуту зовешь меня, бросаешь и бросаешь в меня камешками. Ты выходишь из своего укрытия, если я иду в море, и уже все кругом понимают, что подходить ко мне не надо…