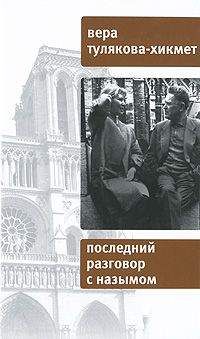Помнишь, ты развлекал женщин, гадая им по руке. С этим гаданьем ты устроил настоящий переполох. Я-то знала, что ты все выдумываешь, читаешь больше по лицам, чем по ладоням, но женщины так верили тебе! Одна расплакалась. Ты «нагадал» ей второго ребенка, а бедняжка боялась родов. После этого ты уже никому не обещал детей, ты сулил им самые прекрасные и невинные свершения. Ты гадал про счастье и своим – Райке и красавице Ирочке Вольпиной, ты гадал несколько часов подряд, привлекая всеобщее внимание. Ты предложил погадать и мне, но я отказалась. Мое прошлое было тебе известно, а будущее… Что про него говорить.
Мы лениво гуляем по деревенской улице вчетвером – ты и три женщины. Ты останавливаешься.
– Если бы сейчас появился джинн и захотел бы исполнить ваше самое большое желание, о чем бы вы его попросили? Знаете, джинны весьма серьезные парни, если уж обещают, то будьте уверены, не подведут.
Мы начали тупо соображать. Ты хитро посматриваешь на меня. А докторша вдруг назидательно произнесла:
– Я хочу, чтобы вы прожили еще пятьдесят лет. Ты вежливо улыбнулся и взглянул на нас с Раисой.
– А вы, девушки?
Что нам оставалось делать? Мы присоединились. Игра не получилась. Ты почувствовал фальшь:
– Вы настаиваете на такой скучной вещи. Джинн страшно разочарован и в конце концов жалеет меня тоже. Еще пятьдесят!
Валяясь на раскаленном песке Архипо-Осиповки, я получаю от тебя первый подарок. Мои первые стихи.
Пчелы,
как крупные капли меда,
пчелы
носят к солнцу гроздья,
они прилетели
из моей молодости,
эти яблоки тоже оттуда,
эти яблоки тяжелые —
эта дорога с золотой пылью,
эти камешки белые
на берегу реки
моя вера в песни,
моя независтливость
и этот безоблачный день тоже оттуда,
этот день голубой,
и море, лежащее на спине,
теплое,
голое…
И эту тоску,
и белые зубы этого рта
толстогубого,
и эту кавказскую деревню
пчелы принесли на лапках,
как крупные капли меда
из молодости моей,
из молодости моей,
где-то мною забытой,
меня не насытившей…
Я вижу, как временами взгляд твой затуманивает иная тоска. Ты смотришь через море, туда, где оно смыкается с небом, смотришь в этот шов, как в щель, напряженно, без устали, и чудо свершается: ты на том берегу. Я не знаю, что ты там делаешь, бросаешь ли камешки в воду, механически, как сейчас, или, пройдя набережную, устремляешься в самую гущу Стамбула, смешавшись с толпой. Может быть, держишь на руках своего маленького сына или ешь пахлаву. На могилу матери не пойдешь, не потому, что избегаешь ходить на могилы, а просто не знаешь о ее смерти. Я теряю тебя в Стамбуле, Назым. И тогда я подхожу и сажусь с тобой рядом. Ты этого даже не замечаешь. Как далеко ты ушел, как далеко… Я тихо жду, когда ты вернешься.
– Вот так, милая, – говоришь ты мне, – всего несколько десятков километров…
На твоем внезапно посеревшем лице красные веки и глубокие красные морщины проступили, как границы на политической карте мира. И мне страшно. Ты похож на серые портреты Буффе, прорисованные красной краской. Как тяжело тебе жить. Как тяжело…
Если бы сейчас явился передо мной джинн, я бы попросила его за тебя. Не пятьдесят, а столько, сколько ты хочешь сам, но посвободнее, посчастливее.
Я снимаю с головы резиновую шапку, зачерпываю в нее воду из твоего моря и приношу тебе, Назым.
Ты берешь ее пригоршнями и опускаешь в это микроморе свое лицо. Вода проливается между пальцев. Ты наполняешь пригоршни снова и снова, и теперь никто не догадается, что ты плакал.
– Вы раскаиваетесь, что оставили Турцию? – спрашиваю тебя.
– Вопрос не в этом. Иногда со мной случается такая страшная тоска, хасрет, – произносишь ты по-турецки, – что не знаю, что лучше: жить вот так сейчас или тогда получить пулю в затылок. Не дай Бог испытать тебе эту тоску. Ты не можешь себе представить, что это такое, стать эмигрантом. Даже таким, как я. Даже здесь, в Советском Союзе.
Несчастный Назым… Несчастная я.
Я привыкаю к морю, милая,
и к солнцу,
и к яблоку, и к звездам, и к песку,
все больше привыкаю.
Смешавшись с морем,
с солнцем,
с яблоком,
со звездами,
с песком,
я должен уходить.
Не знаю, когда ты писал свои стихи: вечерами или рано утром, но ты приносил на пляж белые листочки, исписанные твоим немного детским почерком, и переводил их сам, коряво, но выразительно. Это уже потом в Москве Муза сделает из твоих турецких стихов русские, а пока ты сам день за днем переводишь их нам на пляже:
Как холщовая рубаха,
выстиранная на обветренной палубе
железной щеткой
в морской воде,
на моих плечах
печаль.
И в этой южной деревне
солнце
краснеет
и наливается
в девушках и персиках.
И я чувствую, как прощаю тебя. Видимся – значит, жива, Назым. Чувствую, как опять мои качели несут меня навстречу тебе. И на твой вопрос:
– Прости меня, я не должен был приезжать. Но я не мог. Я так хотел тебя видеть. Ты простишь меня?
Я отвечаю:
– Ничего, Назым. Я рада.
Подожди, Назым, не говори со мной. Во мне расщепляется время. Моя память достигла небывалой ясности. Я не могу отвлечься, я боюсь пропустить главное среди всех наших дней, часов и минут, а главным оказывается все… Но так не может продолжаться долго. Я не выдержу. Сойду с ума и, чтобы не рухнуть, должна вернуться назад и смиренно, шаг за шагом пройти наш путь. Я беру большую пачку твоих писем. Они столько раз мне помогали. Пусть поговорят со мной еще разок. Выдергиваю наугад.
Вот письмецо. Ты послал его Акперу из следующей поездки, чтобы он сразу по телефону перевел мне стихи. Как ты верил в силу своих стихов, Назым!
Москва, 1-я Черемушкинская. Тов. Бабаеву Акперу
Я не встретил чаек
и в погоне за мной
рыбьи стаи не мчались
в волне за кормой,
и три дня и три ночи,
как тяжелое горе,
все текло через тучи
Балтийское море…
Я боюсь потерять тебя,
словно чую беду,
что вернусь – и ни города,
ни тебя не найду…
Переведи это девушке, сынок. Тоскую. Целуй ее за меня. Назым
Я еще не пришла к тебе тогда, а ты уже боялся меня потерять. И все больше, все острее, все мучительнее. Хорошо. Бойся и не отпускай. Незачем нам расставаться. Мы вместе, как всегда, муж мой.
Вот и я. Вчера слушал твой голос и был самый счастливый человек в мире. Все время думаю о нас: о тебе и обо мне. Я вернусь и обязательно научусь хорошо, по падежам писать по-русски. Любить тебя так и не писать об этом по-человечески, с ума можно сойти! Ты, милая, понимаешь, что я пишу? Я если совсем не заболею – 15-го уезжаю отсюда, т. е. в понедельник, в понедельник! И вот. Пиши, меня не забывай. Иногда, т. е. каждую минуту думай обо мне. Целую, радость моя.