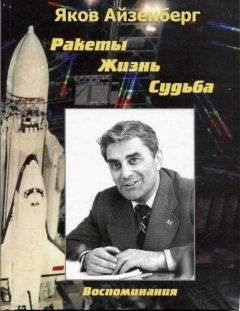Ознакомительная версия.
Пожалуй, не только комический. Все вообще не так просто. Еще Николай Евреинов придумал «театр для себя» как психотерапевтическое подспорье для групповых взаимоотношений: он полагал, что выведенный на свет и театрализованный конфликт – это конфликт уже прожитый, снятый. Думаю, что-то подобное происходило и с нами, только обходилось без «теорий» (до которых Костя был не большой охотник). Потому и не осознавалось в свое время. Осознается только сейчас, и некоторые пасквили читаешь с очень странным чувством – смешанным и беспокойным. Но и над самой жизнью, что шла вокруг Кости, как будто немного – и начерно – поработал драматург. Она была сделана из другого материала, более цветного и яркого (а иногда как бы мишурного); она сценична и отчетливо разбита на эпизоды.
Костя очень хорошо знал Москву, любил долгие пешие прогулки в одиночестве или вдвоем, втроем. Мы охотно составляли ему компанию. Тогда наши сумки на время прибавляли в весе: по бутылке вина на брата (и сестру). Нужно было забраться в самый дальний угол непроходного двора, да так, чтобы не просматриваться из верхних окон. И тут легко было просчитаться.
…В районе Арбата обнаружилась удобная лавочка за мусорными контейнерами. Погода была самая благожелательная: теплая ранняя осень в редких облаках. После первых глотков вкруговую разговор сразу принял верное направление.
Мы, к счастью, успели опорожнить и зашвырнуть под лавку первую бутылку, когда в нескольких шагах от нас с визгом затормозила милицейская машина. Из нее вылезли два человека в форме, двинулись к нам. А может, не к нам: идут еле-еле, смотрят в сторону, потягиваются. Нет, все-таки к нам. «Распиваем?» – «Почему распиваем? Просто сидим». – «А бутылка откуда?» – «Какая бутылка?» Порожняя тара лежала тихо и впрямую на нас не заявляла. Доказательная база отсутствовала.
«Документы есть?» Я потянулся за паспортом, но вовремя заметил, что Костя с обдуманной неторопливостью протягивает союзный билет. Это было правильным решением. Дядьки сразу как-то сдулись, потускнели. Настоящего развлечения не получалось, но они для порядка продолжали гнуть свою линию: «Что ж это вы – приличные люди, а сидите на помойке, распиваете». – «Не распиваем». – «Приличные вроде люди, а сидите на помойке…» Ладно, сидим на помойке, но ведь это не запрещено?
Мое внимание раздваивалось вслед за чувством опасности: у него был и второй источник. Все это время Галя раскачивалась на своих юниорских ногах, надувая губки, играя глазами. Ситуация ее страшно забавляла, и она, как я с ужасом понял, готовилась принять в ней живое участие: завести с дядьками искрометный разговор в присущей ей манере. Само ее раскачивание походило на то, что предваряет прыжок под крутящуюся дворовую веревку. Наши страшные взгляды ее на время задержали, а за это время машина уехала.
Костя был среди нас единственным «настоящим» писателем – членом СП. Правда, свой членский билет – а заодно и паспорт – он терял с частотой, которая всерьез заинтересовала бы психоаналитика. Но удостоверение члена Литфонда почему-то не терял. (А когда все же потерял, это было таким звонком, на который сразу отозвались сирены «скорой помощи».)
Для входа в ЦДЛ ему никаких удостоверений не требовалось. Костя был там своим человеком, и его, как Остапа Бендера, любили все буфетчицы, официантки и даже некоторые дамы из администрации (пышные фигуры, сложные прически). Это оказалось очень кстати, когда пришел сухой закон, выпить стало негде и нечего. А ЦДЛ жил, как прежде, и веяния времени его не касались.
Для меня посещение этого клуба каждый раз было испытанием. Когда видишь сотню писателей одновременно, да еще в нетрезвом состоянии, впечатление составляется довольно мрачное. В первое мое посещение Дома мы сидели с Костей в «цветном» буфете, где стены изрисованы шаржами и исписаны короткими стишками. В углу, образовав собой живую крепость, заседала расширенная редколлегия какого-то «почвенного» журнала. Вид у людей был такой, как будто они действительно только что вылезли из родной почвы. Порхали слова-паразиты: «жид», «жиды», «жидовский». Скоро обнаружилось, что и в этих товарищах нет полного согласья, они пошли врукопашную поверх стола, потом стали махаться тяжеленными табуретками.
Были еще какие-то постоянные персонажи, завсегдатаи, бродящие от столика к столику и подсаживающиеся к знакомым (и незнакомым). Костя их почему-то привечал, может, из-за любви к любым бездомным существам. Помню вечер, когда один из таких бродячих подсаживался к нам дважды – плюхался на свободный стул и просил купить ему бутылку. Первую бутылку он отрабатывал как надо: «Лучшие наши писатели – Шергин, Коваль, Сергиенко…» Но со второго захода та же тема развернулась иначе и достаточно неожиданно.
– Вы, конечно, неплохие писатели. Но вы – компрадорская литература. Вы сотрудничаете с оккупантами.
– И кто же оккупанты? – спросил я, хотя ответ знал заранее. Человек взглянул на меня и усмехнулся: «Да вы, например».
Я попросил объяснить, но объяснение вышло довольно путаное: что-то про Христа и почему-то про обрезание. Даже Костя был поражен, а уж он-то всего навидался.
Однажды подсел к нам невысокий, худой, опасный человек. Его непростая жизнь, что называется, наложила свой отпечаток: какое-то второе лицо успело нарасти поверх первого.
– Правильно ли мне сказали, что здесь сидит писатель Сергиенко, автор знаменитого «Оврага»? – Человек быстрым профессиональным движением плеснул вина в пустой фужер и сразу, не дожидаясь ответа, сделал большой глоток. Но отшивать его никто не собирался. Костя смотрел на странного человека внимательно и немного недоуменно:
– Сережа, а вы меня не помните?
От такого битого жизнью человека трудно ожидать, что он вдруг растеряется, и это, кажется, произошло. Но даже я много о нем слышал – о Сергее Чудакове, поэте, московском приятеле Бродского и адресате знаменитого стихотворения «На смерть друга» («Имяреку, тебе…»). Асаркан потом подтвердил мои сведения в очередной открытке: «Сережа Ч. – не некий, а очень даже какой. Прочитав в рукописи Бахтина, напечатал в «Театре» статью (о постановке Брехта) со всеми применениями термина карнавальность, какие мог придумать, и очень (на короткий срок) прославился. Потом прошел слух, что он умер, заснув и замерзнув в телефонной будке». (По дате письма – 19. 06. 88 – можно примерно датировать и событие: весна 1988-го.) Слух о смерти оказался ложным, точнее – преувеличенным. И опровергнут был не сразу, что тоже характерно.
Костя знал эту ленинградскую компанию – «ахматовские сироты» и их приятели, а в шестидесятых годах даже каким-то боком в нее входил. Неизвестно, правда, на каких ролях. Мои знакомые, имевшие к той компании отношение, его хорошо помнили. Как-то на «понедельнике» столкнулись Костя и мандельштамовед Саша Морозов, очень друг другу обрадовались. «Чем ты занимаешься?» – спросил Саша. Костя, преодолевая неловкость, немного надулся: «Занимаюсь литературой». Саша очень оживился: «Русской или зарубежной?» – «Да нет, – еще больше смутился Костя, – я сам пишу». Саша даже не смог скрыть разочарования.
Ознакомительная версия.