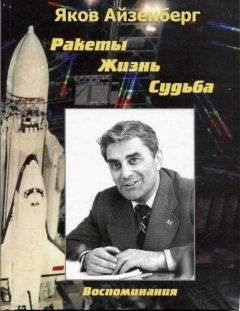Ознакомительная версия.
Уезжая, всегда кого-то не могли досчитаться. Сердились, гудели.
Но в тот раз (дело было в конце семидесятых) мы рыли какие-то ямы перед церковью в Больших Вяземах. Я рыл свою отдельную яму и – если смотреть со стороны – постепенно уходил под землю. Со стороны на меня смотрел Вольфганг Вольфгангович, реставратор из высшей лиги, таких в нашей конторе было всего трое. От двух других Вольфганга Вольфганговича отличали брезгливое вольномыслие и широта интересов. В «Новом мире» когда-то чуть было не прошла его статья, пришлось рассыпать набор. Мы никогда не разговаривали, только здоровались. Со стороны он был мне интересен. Мне вообще нравятся резкие люди, оригиналы.
Упираясь в дерн толстыми ногами, Вольфганг Вольфгангович рассматривал меня сквозь очки, как взрослый посетитель зоопарка разглядывает не слишком экзотического зверька, вроде лисицы. Я рыл яму и поглядывал на него выжидательно.
– Вы знаете, Миша, – заговорил наконец Вольфганг Вольфгангович, – такая вот интересная история: какой-то ваш однофамилец и даже тезка заполонил своими невразумительными стихами всю эмигрантскую периодику. Что бы это значило? Вы что-нибудь слышали?
Удар был нанесен неожиданно. «Заполонил» – это была, разумеется, фигура речи. Так, несколько публикаций. Открещиваться от них (при случае) я не собирался, но осведомленность сослуживцев в мои планы тоже не входила. Я неопределенно пошевелил плечами, недоуменно – бровями, мол, чего на свете не бывает. Разговор закончился, не начавшись.
Чего не скажешь о внутреннем монологе. Это событие, поймите, не было вполне ординарным. Публикации, о которых так запросто заговорил В. В., существовали в ином измерении, в каком-то другом мире, едва ли существующем. В реальности стихи читались на кухне и по листочку передавались нескольким знакомым. В тридцать лет я впервые увидел читателя.
Вскоре ямы были выкопаны, началась заключительная часть трудового праздника. «Между первой и второй», – затараторили, оживленно гримасничая, активисты, и Аркаша Молчанов, монархист, гаркнул свой коронный тост: «За Реставрацию!» После третьей рюмки дышалось вольнее, а согласованность действий стала нарушаться. Я сделал шаг по направлению к Вольфгангу Вольфганговичу:
– А почему, скажите, вы считаете эти стихи невразумительными?
– Так это все-таки ваши произведения, – холодно констатировал В. В. – Я, собственно, был уверен, что таких совпадений не бывает.
Подумал секунду и добавил: «Принесите то, что сейчас пишете».
Я принес, разумеется.
– Меня беспокоит состояние вашей библиотеки. Два Андрея Платонова почему-то. Хотите, я подарю вам третьего? – Павел Павлович небрежно оглядывал корешки, и мне казалось, что под его взглядом книги готовы спрятаться друг за друга. – Ага, Лихачев. Кстати, на вашем дне рождения я понял, почему Виктора прозвали Цицероном. Действительно: вошел и говорит, говорит, размахивает книжечкой Лихачева. Этот Лихачев после смерти Бахтина тоже говорит не переставая, интервью во всех газетах, страшно много глупостей… А вот вам от меня подарок – самый лучший сборник Пастернака. Лучший, потому что маленький. Вы, кстати, знаете, что я с вами в ссоре? Не знаете? Никто не знает, даже не догадывается.
Он позвонил днем, сказал, что заедет ненадолго для важного разговора и чтобы я встретил его у подъезда. По пути от такси до лифта сообщил, что ушибся и теперь у него в глазу что-то вроде бельма, но об этом не надо спрашивать и даже смотреть не надо. Я все-таки посмотрел. По виду простое кровоизлияние.
– Есть старинный анекдот о том, как слепнущий Джойс диктует своему секретарю, будущему нобелевскому лауреату, и вдруг спрашивает: «Там, за углом, пряники продавались, ты себе купил?» Тот записывает. «Записал, дальше». – «Да нет, я спрашиваю: ты себе пряники купил?» – «Записал, дальше». – «Да я… А-а, черт, пусть так и останется». Джойс довольно поздно прочел «Алису в Зазеркалье»: ого, оказывается, то, что он делает, уже сделано, может, даже лучше. Там нет ни одного слова, которое не было бы перекорежено и обыграно двадцать раз. И это было бы весело… Но это не весело. Читать тяжело, чтения вслух хватает на полчаса, не больше. Больше не выдерживает слушатель. Две-три странички. Но это новый, совершенно новый язык… Как они работают? Я говорю сейчас не о Джойсе и Беккете, а об остальных. Они наговаривают. Или стучат на машинке по пять-шесть страниц в день. И если стучать так несколько недель, то что-то начинает возвращаться и проясняться. Но по пять страниц в день я мог выстукивать только в шестьдесят втором году. А теперь страничку-две, да и то через день. Это очень хорошее терапевтическое средство. Но как-то все идет… как в колодец. И в ответ ни звука. И тут приходит в голову то, против чего я боролся всю жизнь: что шедевр становится шедевром только тогда, когда его признают шедевром. Нет! Шедевр существует сам по себе! Но когда ты не знаешь, кому всунуть очередную сотню страниц…
Тут зазвонил телефон. Договорив, я пошел обратно в кухню, неся заготовленную фразу так, чтобы ее уже нельзя было сбить или проглотить: «Вы считаете, что это не находит никакого отклика?»
– Считаю.
– Но как же? Но… Но хотя бы Иван, переписывающий ваши тексты подряд в свою тетрадку?
– Подряд? Так это еще хуже! Это новелла Гаршина «Красный цветок». Человек с манией величия безнадежен, но еще безнадежней, куда более безнадежен тот, кто верит в чужую манию величия. Вот Зиник не прижился у Айхенвальдов, его там не приняли. А почему? Говорят: «надоела маниакальность!» Нам не нужны те, кто верит в чужую манию, нам нужны те, кто верит в наше величие. А что, кстати, его последнее письмо (вы мне показывали)? Что вы ему ответили?
– А что на это можно ответить? Пишу о своем.
– Да-а. Только это и остается – писать о своем. А как вы отвечаете? Письмом на письмо?
– Нет, в своем ритме.
– У него там в кусках и цитатах достаточное количество чтения. На всю жизнь хватит. Но это даже неважно, потому что он сразу сделал главный вывод.
Павел Павлович втянул щеки, словно зажав себе рот, и полминуты молчал, не решаясь так сразу выдать тайну.
– Вывод такой: «я тоже так умею». Он очень рано понял, что писать интереснее, чем читать… Но я опять повторяю прежнюю ошибку. Я говорю сам, а надо слушать вас. Вот у меня тут даже на листочке записано: «Пусть говорит Миша».
– Это был бы кошмарный вечер.
Но когда я что-то все же произносил, он действительно слушал очень внимательно. И при этом делал какие-то зачаточные движения: округло разводил руками. Я не сразу понял, что он невольно копирует мои движения. Это я, оказывается, так жестикулирую.
Ознакомительная версия.