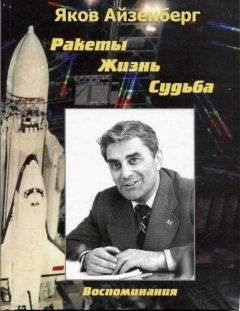Ознакомительная версия.
– Нужно, чтобы говорили вы. Это мне нужно, для меня. У нас нет общих тем, я же про вас ничего не знаю. У вас своя жизнь, а я вынужден наскребать темы, и опять получается разговор с воображаемым собеседником. Но надо же хоть иногда выговаривать кому-то эту ерунду… Я, кажется, оправдываюсь.
Поразительно, что это был четверг, приемный день (журфикс), но никого не было, никаких гостей. Небывалый случай. Павел Павлович уже вышел в прихожую, стал надевать пальто, но тут появился Иван с тремя бутылками «Хванчкары». И ПП, конечно, задержался, мы его уговорили. Пошли обратно в кухню.
Иван – чтобы в дальнейшем не было разночтений – сразу сообщил, что у него запой. А может, и не запой, он сам еще не понял. ПП оживился.
– Ну, здорово! Запой! А что же вы так тихо сидите? «Запой» – это звучит гордо. Говорите прямо, не стесняйтесь. Ну, огорошьте нас чем-нибудь, скажите «Набоков – гад» или «Олеша – гад». Беда в том, что все Мишины собеседники – добрые, спокойные люди, не колючие, не резкие. Предпочитают мирные рассуждения о Набокове, о тексте. Да! Кстати! Почему вы сегодня совсем не произносите слово «текст»? Вы вообще очень переменились, я вас даже не сразу узнал. Вот у вас запой, а что вы пьете, когда запой? Водку? Ах, вино! Но тогда можно считать, что у Асаркана чайный запой или, например, кофейный, когда он за день выпивает тридцать шесть чашечек черного кофе. Вы извините, у меня сегодня веселое настроение, а это бывает раз в четыре года, когда я просыпаюсь без шила в боку. Я ваши слова не воспринимаю всерьез. Сочувствия тут не ждите.
Я машинально поглядывал на свое отражение в оконном стекле и вдруг заметил, что глаза лучатся нездешним фосфорическим светом. Вино начинало действовать, я не сразу понял, что отражающееся лицо совпало с огнем двух далеких окон. Сидящий на перекидной лавке Иван смотрит на ПП почти такими же глазами, но тот этого не замечает или не хочет замечать. Он говорит:
– Мы совсем усыпили Хванчкару. Но я все равно благодарен ему, этому новому слушателю, за то, что смог проговорить кучу старых анекдотов. Их даже Миша слышал уже десять раз. Но вот вы прочитали эту книгу, и что? Захотелось вам после нее бросить писать ваши стихи?
– Но я не пишу стихов.
– Так что вы там поняли? Как вы улавливали все намеки, аллюзии, контаминации?
– Конечно, все это ушло. Остался текст.
– Ну да, разумеется. Остался «текст».
– Остались слова. И если сначала они кажутся жутко смешными, кажутся пародийными, то на следующем круге к ним уже относишься серьезно, и так далее, и наконец они приобретают свое настоящее значение.
Как всегда, что-то самое важное было сказано, когда я выходил в туалет. Так бывало и при другом составе участников. Мирная беседа не складывалась, прямого разговора не получалось, главные фразы произносились походя, вскользь и предназначались как будто не мне. Даже такая: «Я считал, что Миша просто качается на волнах, по воле волн, но вот начинает казаться, что в этом есть какая-то продуктивность». Или такая: «На этом прозаике я поставил крест».
И в этот раз, когда меня не было в кухне, Иван наконец не выдержал, что-то сказал, крикнул. ПП теперь не поддразнивал его, а говорил мрачно и увещевательно:
– Не надо. Не надо так расстраиваться. Вы петь умеете? Нет? Тогда пейте. Делайте что-нибудь. Главное, не повторяйте чужих ошибок. Или вы думаете, что очень весело всю жизнь изучать английскую литературу? Нет. Нет. Не очень весело. Вот Миша, смотрите: железобетонный человек, человек двадцать первого века. Берите пример с него. Такой бездонный колодец: плюнешь или кинешь пятьсот пять страниц – и летит, летит… Ни звука.
– Не в этом дело. И вообще, разговор не о том. Просто я дрожу, как мокрый пес на ветру.
Тут кто-то посмотрел на часы, оказалось, уже двенадцать. А ведь я был предупрежден, что крайний срок полдесятого, и где мы сейчас найдем такси? Павел Павлович не разрешил нам искать попутные машины, у Курского была очередь на час, и он, единственный в этой очереди, простоял молча, не шевелясь и не прихлопывая для согревания. Мы приплясывали рядом и тоже молчали. Машина наконец подошла, он захлопнул дверцу и на прощание улыбнулся нам из темноты.
– Дети и классики в выражениях не стесняются, – печально сказал Иван. – Этим я и утешался, когда меня назвали Хванчкарой. Ясно одно: я опять весь вечер хамил. Ну, ты прав, прав – не хамил. Но вопросы задавал, хотел пополнить свое образование.
Вопросы действительно задать не удавалось, они не включались в разговор. Даже невинные, вроде: «Что означает эта английская фраза?»
– Ох, если бы и я мог спросить и получить ответ. Если бы все было так просто.
– А чья это фраза: «Если я в ваших глазах как гласные в донесении восточного визиря, то нам скоро станет неинтересно разговаривать по телефону»?
– Чья фраза? А чья фраза «все люди братья, я – кузен»?
– Как «чья»? Айхенвальда.
– А вот и не Айхенвальда, а из русско-персидского разговорника.
(Интересно все же: откуда они все это знали?)
– Да ты их перебивай, перебивай, – втолковывал мне Зиник (пока не уехал). – Им это ничего. На самом деле их надо перебивать. Кто такие они, стало ясно не сразу. Зиник как-то уклонялся от прямых объяснений, а в его рассказах смутно шевелилась толпа. Потом, правда, оказывалось, что по-разному обозначенные персонажи имеют в основе один прототип и все нужно делить на три. («Один великий человек», «Марсель Пруст журнала „Театр“» – это все Вадим Гаевский. «Веселый пенсионер», «человек с палочкой» и «один такой русский Джойс» – Улитин.) Но толпа почему-то не редела. На еженедельных журфиксах Зиника, «четвергах», каждый раз бывали новые люди. Там я увидел сначала Асаркана, потом – с некоторым временным разрывом – Айхенвальда. Значит, это и есть они? Или кто-то, стоящий за ними? Организация?
– Главного человека они держат в тени, – сказал Лёня Иоффе. – Есть там такой Устен Малапагин – это, конечно, псевдоним, а зовут его как будто Павел Павлович. Это – ну, как сказать? Это такой русский Джойс.
И вот проходит месяц-другой, мы с Лёней приходим к Зинику. Открывает Нина, из передней слышно, как в комнате кто-то читает стихи, сильно скандируя, разделяя длинные слова на несколько коротких со своим ударением («блага – дарю»), проглатывая безударные. Появляется таинственный Зиник, манит в комнату. Человек, читавший стихи, обернулся и посмотрел на нас – весело и с любопытством.
Его манеру чтения стихов можно назвать «камерное скандирование»: внутреннее напряжение как будто рассчитано на большую аудиторию, но не выведено голосом, приглушено. Второе значение слова «камерный» объясняет, вероятно, и происхождение такой манеры. Айхенвальд рассказывал об их первом знакомстве в 143-й камере Таганской тюрьмы. ПП учил его английскому языку, читая стихи Шелли и Байрона. Читал и коллажи из собственных текстов.
Ознакомительная версия.