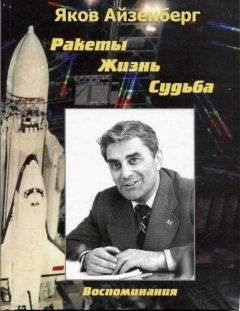Ознакомительная версия.
Его манеру чтения стихов можно назвать «камерное скандирование»: внутреннее напряжение как будто рассчитано на большую аудиторию, но не выведено голосом, приглушено. Второе значение слова «камерный» объясняет, вероятно, и происхождение такой манеры. Айхенвальд рассказывал об их первом знакомстве в 143-й камере Таганской тюрьмы. ПП учил его английскому языку, читая стихи Шелли и Байрона. Читал и коллажи из собственных текстов.
Мне кажется, что это скандирование, это напряжение как-то вошли в ритм его прозы, а потом – в стиль разговора. Думаю, что именно так, а не в обратном порядке.
– Мы же зубры, – говорил ПП. – Ведь сколько лет мы читаем стихи и заучиваем наизусть. Уже забывать стали. Не мог однажды вспомнить: «Если ты спокоен, не растерян» – а как дальше? Вот, смотрите, перевод, а какая поэзия! Многие переводы Байрона лучше самого Байрона. Я однажды обещал Айхенвальду сделать весь подстрочник «Сирано», но ничего у меня не вышло, только несколько кусков перевел. Пришлось ему обращаться к другому знатоку. Все тогда удивлялись: как так – без заказа, без договора – перевел всю пьесу? А вот так – без заказа, по вдохновению, в одну ночь! Захочу – переведу завтра «Гамлета» – и тоже без договора.
…Наверное, в молодые годы и надо заниматься чем-то таким – литературоведением, математикой. Чтобы разговор шел на другом, более определенном уровне. Как наши ифлийские споры о том, кто написал «Боже, царя храни» – Пушкин или Жуковский? У обоих есть в собрании сочинений. А оказалось – совместное творчество, и не только эти двое принимали участие. Но первая строка, конечно, Жуковского. Потом были другие открытия. «Всегда так будет, как бывало, / Таков издревле белый свет: / Ученых много, умных мало. / Знакомых тьма, а друга нет». Пушкин? Оказалось, не Пушкин, а Петров. Пушкин просто переписал на память, было в его бумагах. Или: «Залог достойнее тебя». Что это значит – «достойнее тебя»?
…Я когда-то презирал стихи типа «Я вас люблю, но денег нет». Но денег действительно нет. «Вы любите ли сыр – спросили раз ханжу». Почему ханжу? Что здесь смешного? Пародия. «В саду играет детский сад» – это плохая строчка из плохого стихотворения. Но ведь он действительно играет целый день под моим окном, мешает работать. Или: «Улица корчится безъязыкая». Но она действительно, она же действительно корчится. И это что-то… оформляя-ет…
Последнее слово он как-то кисло потянул, подняв брови и помаргивая. Секунду назад глаза были прищуренные, желтые, нетрезвые, недобрые. Но вот одно движение бровей – и он смотрит на меня ясно и пристально, щеки втянуты, усы насмешливо подрагивают.
– Однажды смогисты пришли к сыну великого поэта, читали стихи, он очень хвалил. А когда прощались, вдруг сказал: «Но вы знаете, я ведь в стихах ни бум-бум». Они очень расстроились. Они были еще очень молоды и не понимали, что ведь никто в стихах ни бум-бум. Существует четырнадцать родов поэзии, и каждый имеет право на существование. Конечно, вы должны продолжать писать, раз это существует, и есть два человека, которым это нравится. Но учтите: я не читатель стихов. Я не люблю стихи, над которыми нельзя поиздеваться. Хм, я это сказал совсем как Асаркан!
А когда мы шли к такси, он вдруг наклонился в мою сторону: «Не обижайтесь на двадцать восьмую страницу. Помните, что никто в стихах ни бум-бум. И никто ни в чем ни бум-бум. Разговора о стихах больше не будет».
Понятно, что подаренный в тот раз новый текст я начал читать с указанной страницы и с того самого абзаца. Вот он, этот абзац: «Он не понял главного. Что каждый посильно устраивает себе свои собственные настольные книги, а поэт никогда не печатает свои стихи на машинке. За это его и любят. Это проделывают за него другие. С промежутком в 40 лет – а как же».
Я еще только начинал тогда свою службу в реставрационных мастерских, а близ Новгорода уже не первый год шли работы по восстановлению фресок церкви Спаса на Ковалеве. Реставраторы перебирали мусор и обломки сводов, находили кусочки фресок, складывали их в контурах первоначальной росписи. Трудно себе представить результаты их работы, смотреть наверняка почти не на что. Но я сейчас занимаюсь примерно тем же.
– Иностранцы – это дети, это просто дети, – говорил Морозов. – Но я тоже хочу быть ребенком! – И Павел Павлович стукнул кулаком по столу. – Я хочу быть ребенком, я хочу кричать «Король голый!». Высокие слова о России легко говорить вне России. Попробуйте, живя в России, положить их на машинку. Самые главные слова были сказаны с трибуны эсеркой Спиридоновой, когда латышские стрелки уже подтягивали артиллерию. И артиллерия-то не ахти какая – две пушки. Но на Большой театр и этого было достаточно. Две пушки, четыре снаряда… А «Наша страна» – это газета или рубрика? Я читал недавно газету «Пушкинский край», это такая газета, что – ар-р-р – мне хочется рычать. Что они носятся с этим Михайловским? Это же все-таки ссылка. Няня, няня! Как будто у него папы с мамой не было. Да, я тоже люблю эту пустыню. Эту Сахару. А вот Зиник сидит в своей пустыне и не понимает, почему дорогой Пал Палч не может дорогому Зинику черкнуть пару строк. А мне просто противно каждый раз писать адрес «улица Рабиновича 33», отправлять письмо в мае семьдесят пятого, чтобы оно пришло в июне семьдесят шестого, а ответ получишь вообще в 1984 году. И т. д. и ПП. Легче написать английской королеве. Или вообще покойникам – а что? – даже лучше, самые интересные собеседники… Но и в его последних письмах ничего не поймешь. Что за «боль в висках», посланная на четыре адреса? В двадцать пятый раз «приедет Мишка или нет?». Ч-черт! Они там с ума посходили со своими перемещениями из одного отделения больницы в другое. Сколько усилий для того, чтобы продолжать тянуть все то же пиво. Отъезд из Москвы не отменяет московских отношений и не решает никаких вопросов, только снимает их временно, поначалу. Жуткое там напряжение, в его письмах. В таком состоянии можно находиться раз в месяц, в год. В день экзамена, например. Так можно провести одну какую-то ночь. Но он живет так все время! Как же так? Нужно читать. Сидеть и читать книги, о которых говорили всю жизнь. Язык изучать, «предков» этих изучать. Три месяца прошло – а осталось тридцать три года! Хотя это у нас время такое замедленное, а у них месяц как год… Но где продолжение? Почему он не напишет письмо Солу Беллоу? Или папе римскому? Не объяснит, что ему делать: чи экуменизироваться, чи нет?
Когда Павел Павлович ушел, Морозов заговорил о его прозе. Он читал, но немного и не очень понял, а как я к ней отношусь? Я сказал, что, на мой взгляд, ПП замечательный (тогда легко вылетало слово «великий», возможно, я так и выразился) писатель, но интересует его только проза, только литература, поэтому сейчас он – вот парадокс – из нее выпадает. Это у Тынянова есть что-то про новые, «совсем голые» явления, которым нужна какая-то смесь, даже неразбериха, чтобы не оказаться вне литературы. ПП что-то вроде тотема, который должны съесть ученики. И он сам это прекрасно чувствует, хлопочет не о читателях, а только об учениках, – каждого читателя пытается почти насильно сделать писателем. Но у читателей плохой аппетит. А ПП необходим русской прозе, это какая-то назревшая реформа права писания, свободный вздох самой литературы. Ему бы школу, ему бы не одного ученика, а хотя бы трех. Но я уверен, что скоро появятся его мнимые ученики: писатели, которые по всем статьям его последователи, только – вот казус – никогда его не читали.
Ознакомительная версия.