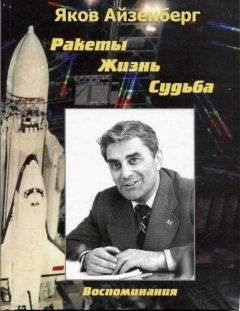Ознакомительная версия.
Морозов слушал и недоверчиво качал головой.
Даже на меня вначале была некоторая надежда. ПП просил иногда что-то перепечатать или завуалированно намекал: не пора ли, мол, бросить стихи и заняться настоящим делом. Я отговаривался: «Вот же я отвечаю на ваши письма, это и есть моя проза».
Если называть письмом то, что вложено в конверт и отправлено, то – да, это были письма Павла Павловича. На деле – прозаические тексты, мотивировку которых нужно было угадать – и не ошибиться. В этом угадывании или в перепечатывании указанных кусков был намек на ученичество, на школу. Но на самом деле настоящей школой становилось общение с ним, когда подспудно вырабатывался навык смотреть на жизнь как на возможность книги. И это делало ее не такой безысходной.
Но может быть, и письма к нему были если не прозой, то ее попыткой, уроком. Я ведь учитывал, кто будет это читать.
Кажется, единственное умение, которым стоит владеть, – это умение превращаться в прах. Рассыпаться пылью, пылью ложиться на предметы. И так горько потом снова восстанавливать форму, быть кем-то. Как будто отдаешь по частям мгновенный золотой век и отдаешь его весь, до конца.
С мукой отворачиваешься от всего, на чем остановился взгляд. Если б можно было иметь единственную привязанность, – не человека даже, а позу человека или пятно света, оседлое и неизменное. Так и получается, что смотришь затылком, вцепившись сразу в такое количество вещей, что пяти жизней на них не хватит. Нет, не этого ждут от тебя. У любой задушевности прогорклый привкус. Я верю в ад наяву для тех, кто тянет больше, чем способен взять. Это может отчасти объяснить мое отношение к людям – назойливое любопытство и ложный голод общения. Я ищу свидетелей защиты или обвинения. Мне надо сличить показания их душ с тягостным молчанием собственной.
Вот так и бывает: в одно прекрасное утро просыпаешься с ощущением, что «еще не вечер». И это ощущение держится все утро. Что-то переменилось, и можно молоть ерунду, не заботясь о произведенном впечатлении. Не проза, не поза, не слова из записной книжки. Я говорю с конкретным человеком и не хочу говорить прозой. Я хочу говорить стихами, по телефону и письмом. Смело ставьте крест на этом прозаике.
Иногда я посылал ПП разные занятные выписки, например, из письма В. Соловьева Ф. Достоевскому: «Неужто так-таки ничего хорошего – истинно русского – и нельзя написать без вклейки целых строк заграничных каракулей, хотя и в скобках, но тем не менее для многих, если не для большинства, положительно непонятных. Встречать эти непонятные для нашего брата каракули и у Вас – как-то обидно». Выписка, ясное дело, с намеком: тексты самого ПП пестрели «заграничными каракулями» на разных языках. Но цитируемый корреспондент Достоевского – не знаменитый философ, а крестьянин Новгородской губернии, «смотритель топлива».
В том сочинении, что пишу сейчас, я спокойно ставлю кавычки, а в письмах избегал, чтобы не наводить – как слепого на тумбочку – на размышления разного рода смотрителей. Письма выглядели странно: «Я дважды ввел Вас в заблуждение. Во-первых, дайджест из цикуты в личном владении мне пригрезился. Во-вторых, из майских подарков недочитанным осталось только занудство в высоком смысле…» и т. д.
Что-то подобное посылал мне Зиник, а иногда – очень редко – Иван, которому как-то удавалось включить интонацию ПП в общий набоковский строй.
Колыбель качается над бездной. Засыпая, я вижу дедушку на дне колодца, на излете прохладного мшистого жерла, на антрацитово блестящем кружке того второго, а может, первого неба.
То небо, в колодце, всегда кажется дальше от вас, если посмотреть. Оно и понятно: на глубину колодца. Даже на удвоенную глубину колодца. И там или там где-то отплясывает или бликует на срубе его панама и белая борода.
Я уж знаю, что это Феодосия. Оба дедушки в парусиновых брюках и таких же туфлях. Вот что тогда носили отдыхающие на ЮБК, глядите-ка:
парусиновые туфли, белённые зубным порошком! Порошок при каждом их шаге осыпался, образуя на земле белый венчик.
И вот эти-то венчики (очень похожие на фотографию затмения Солнца, на Солнечную корону из энциклопедии, если б Луна имела форму подметки)
эти абрисы тонкопалой крохотной ступни, пересекающие едко сверкающий
на едко сверкающем плитняке
от выхода ко входу
к выходу
свеваемые ветром
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Вот ты и кончилась. Как это
я не заметил?
Прощай, дорога на Ланжерон.
16. 8. 76.
Еще до обеденного перерыва на работу позвонила Лена – сообщить, что она и Павел Павлович ждут меня в кафе «Артистическое». Я выскочил из конторы под первые раскаты грозы, нырнул в испарения метрополитена, а вынырнул уже в дикий полосующий ливень и сразу промок насквозь, до последней нитки. Мне махнули рукой из-за углового столика. Да, тот самый столик, где мы когда-то сидели с Зиником, он рассказывал, кто и когда с кем ссорился, и это был лучший способ забыть о нашей недавней ссоре. Неровно подсвеченный витраж с цветами, с чайкой над лирой, за витражом сплетение проводов, как водоросли в аквариуме. Лучше сесть спиной к залу и не оборачиваться, контингент уже не тот, что пятнадцать лет назад. Похожий на бегемота пьяный человек тянет стакан и ревет на весь зал: «Не надо ничего – ни столов, ни блядей, лишь бы были друзья!» Но уже через пять минут друзья ему разонравились, все разом сердито отодвинули стулья и ушли. Подходит человек с пачкой газет, хочет немного на нас заработать. Что ж, это неплохо, даже стильно: будьте любезны, чашечку кофе и свежую газету! А заодно третью бутылку шампанского и еще ветчины. И откуда такие финансовые возможности? А это мы, оказывается, допиваем то, что осталось от проданной «Истории инквизиции». Хорошая была книжка, зато когда всех торопили и почти выгоняли, нам сказали: посидите пока. Посидим пока.
Павел Павлович был так неулыбчив, словно у него не разжимались челюсти. Но одет почему-то парадно: белая рубашка с галстуком, хороший костюм. Потом все объяснилось: он собирался сделать фото для нового паспорта, но до ателье не дошел.
– Самое замечательное в сегодняшней встрече, что она произошла совершенно случайно. Думал ли я сегодня утром, что через несколько часов буду сидеть здесь? Но еще пять лет назад я звонил, и через пятнадцать минут ко мне прибывал собеседник, а теперь приходится ждать по два часа. Уже официантка спрашивала: где же ваши? Я говорю: так они же рабо-о-тают. Все эти два месяца я думал о том, кого бы вызвать, попросить сдать книги в библиотеку и передать, что данный читатель больше не будет пользоваться их услугами. Лену? Мишу? Он, конечно, будет польщен, но сочтет это предложение странным.
Ознакомительная версия.