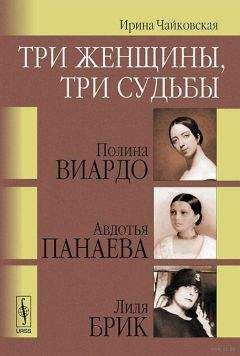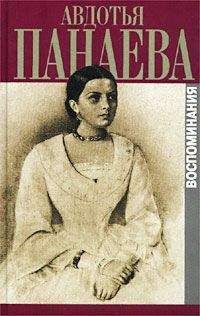4. Спасите меня, я единственный сын у матери
И первое, что сразу привлекает внимание. Рассказывая о своей с Дружининым поездке к Тургеневу в Спасское в мае 1855 года, Григорович много места уделяет фарсу «Школа гостеприимства», написанному тремя писателями по «свежим следам» своего пребывания в усадьбе и тогда же ими разыгранному. Непритязательный сюжет был навеян впечатлениями от запущенного имения Тургенева, унаследованного им после смерти матери, Варвары Петровны Тургеневой (1850 год). Вот как описывает содержание пьески Григорович: «Фарс о помещике-добряке, получившем в наследство деревню и назвавшем в нее гостей, в то время как в деревне все запущено, в крайнем беспорядке, всюду почти одни развалины»[128].
В рассказанной Григоровичем истории для нашей темы очень важно следующее место: «Тургенев взялся играть помещика и добродушно согласился даже произнести выразительную фразу, внесенную в его роль и сказанную будто бы им на пароходе во время пожара: «Спасите, спасите меня, я единственный сын у матери!»[129].
Читавшим книгу Панаевой наверняка вспомнится эпизод, когда ее знакомый «узнал» в Тургеневе охваченного страхом юношу, восклицавшего на горящем пароходе mourir si jeune (умереть таким молодым, фр.). Но нужно пояснить, откуда взялся «пожар». Речь идет об известном пожаре на пароходе «Николай Первый», на котором двадцатилетний Иван Тургенев ехал в Германию — учиться; пожар произошел в ночь на 19 мая 1838 года. К этому происшествию, видимо, оставившему в его душе глубокий след и, возможно, до конца так и не изжитому, Тургенев вернулся в очерке «Пожар на море» (1883), продиктованном уже смертельно больным писателем по-французски и записанном Полиной Виардо. Для нас важно, что уже в 1855 году этот случай циркулировал в форме «литературного анекдота» и Иван Сергеевич был не против этой циркуляции.
Участие Тургенева в качестве автора и исполнителя фарса, основанного на его собственной комически поданной биографии, говорит, что сам он психологически уже преодолел эту ситуацию (или преодолевал таким способом!), тем более, что его жизненное поведение тех лет (публикация некролога на смерть Гоголя, вызвавшая ссылку в Спасское по личному распоряжению царя (1852), посещение концерта Полины Виардо по подложным документам, грозящее при раскрытии тяжелыми последствиями (1853), обнаруживало недюжинное личное и гражданское мужество… «Случай» с Тургеневым, приводимый в мемуарах Панаевой спустя 40 лет, оказывается, был не только общеизвестен, но и вошел в шутливую пьеску, к которой приложил руку сам Иван Сергеевич, не имевший ничего против автошаржа, — это ли не афронт для суровой «обличительницы»! Добавлю, что несовершенный этот фарс, слепленный на скорую руку, при том, что в числе его авторов назывался Тургенев, в феврале 1855 года был поставлен в Петербурге «на домашнем театре» известной семьи Штакеншнейдеров. Конечно, привлекло к пьеске имя Ивана Сергеевича, которого Дружинин, передавший рукопись петербуржцам, объявил почему-то единственным автором. На столичной любительской сцене «Школа гостеприимства» произвела «скандал и позор» — собственные слова Тургенева, присутствовавшего на спектакле и поспешившего с него сбежать»[130].
5. Герой и «антигерой» меняются местами
Если в мемуарах Панаевой «лучшим из людей» (Чуковский, — И. Ч.) выступает Некрасов, а Тургенев подвергается разнообразной и постоянной критике, то у Григоровича наблюдается обратная картина: Некрасова он осуждает, Тургенева же последовательно защищает от критических нападок. XIV глава записок Григоровича так и называется: «Тургенев. Его разрыв с Некрасовым. Черты из жизни и характера И. С. Тургенева. Прежний состав редакции «Современника», замененный новыми людьми».
Весьма любопытно, что Григорович то ли из суперосторожности (на дворе 1893 год, смерть бывшего «государственного преступника» в Саратове в 1889 году встречена официальным ледяным молчанием), то ли из личной неприязни даже не назвал «главного человека», пришедшего на смену «старой редакции» «Современника», а именно: Н. Г. Чернышевского, а о Добролюбове, как я уже сказала, отозвался весьма холодно. В отличие от Панаевой, в записках которой Некрасов, поставленный Тургеневым перед выбором «я или Добролюбов», делает выбор в пользу Добролюбова, Григорович рисует другую, более соответствующую реальности картину: «Из переписки Тургенева с Герценом видно между тем, что разрыву способствовал Герцен, а инициатива разрыва принадлежит самому Тургеневу» (курсив мой, — И. Ч.)[131].
О Некрасове как редакторе журнала» Григорович отзывается критически. Вот несколько высказываний: «Главный недостаток редакции («Современника», — И. Ч.) состоял в том, что не было у нее настоящего главы, настоящего руководителя. Некрасов был, бесспорно, умнее всех нас в практическом отношении, но этого было еще недостаточно; ему недоставало образования настолько, чтобы вести как следует такое предприятие. Он не знал ни одного иностранного языка и не был вовсе знаком с иностранною литературою»[132].
А вот отрывок из XIV главы, где Григорович описывает ситуацию после ухода из «Современника» Тургенева (1860), за которым потянулись и все остальные «старые приятели» журнала: «Главный редактор и хозяин журнала, Некрасов, посвящал ему те свободные часы, которые оставались у него после вечеров и ночей, проводимых за картами в английском клубе и в домах, где велась крупная игра»[133].
Очень важен для нашей темы и следующий абзац о Панаеве, бывшем соредакторе Некрасова, с которым тот на паритетных началах приобрел журнал у Плетнева. Он, по словам Григоровича, «из редактора превратился в простого сотрудника, получавшего гонорар за свои ежемесячные фельетоны. Добрейший этот человек, мягкий как воск, всегда готовый услужить товарищу, когда-то веселый, беспечный, любивший приятельскую компанию, находился теперь постоянно в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа»[134].
Этими словами глава завершается, причем после приведенного высказывания следуют точки — свидетельство выпущенного текста. Григорович не хотел и боялся «влезать» во внутренний конфликт, возникший между Некрасовым и Панаевым, о чем можно судить по его письму из Ниццы от 6 ноября 1887 года Алексею Суворину: «От скуки принялся за работу — продолжаю свои литературные воспоминания; но чем дальше подвигаюсь — тем яснее вижу, что печатать невозможно; правдивая картина редакции «Современника», отношений Некрасова и Панаева — сделали бы то, что от моих старых костей пыли бы не осталось!»[135] Точки в конце повествования о тяжелом моральном состоянии Панаева, об его превращении из редактора в «обыкновенного сотрудника» на гонораре можно расшифровать. Ясно, что современники, знавшие положение дел в журнале, прочитывали их как прямое обвинение в адрес Некрасова, узурпировавшего все то, что некогда принадлежало Панаеву. Кстати, именно об этом в язвительно-ироническом ключе пишет в своих мемуарах Павел Ковалевский[136].