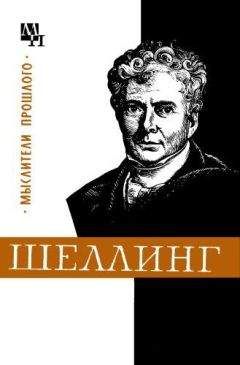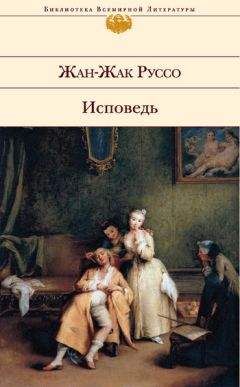Воцарение всеобщего разлада в этой области зафиксировано во вводной лекции по философии искусства: «Постоянно приходится убеждаться, в особенности в настоящее время, насколько сами художники в своих суждениях не только расходятся между собой, но и прямо противостоят друг другу» (11, 58). В века расцвета искусства, его весенней поры оно, напротив, являет более счастливую картину: большее или меньшее согласие великих мастеров, вызревание и рождение великих творений «в тесной связи друг с другом, почти в одно и то же время, как бы от единого всепроникающего дуновения и под одним общим солнцем» (там же). Но с закатом общего для всех солнца в окнах зажигаются огни, в каждом — свой; так же и в искусстве: век счастливой общности и согласия проходит. «Каждый теперь вырабатывает себе свою собственную, особую точку зрения на искусство» (там же, 58–59). Таким видит Шеллинг состояние современного ему искусства и суждений о нем. «Насколько разнородным стало искусство в себе самом, — пишет он, — настолько же разнородны и разнообразны по своим оттенкам различные точки зрения в оценках». «И именно это разногласие, распространенное даже между теми, кто работает в области искусства, — серьезнейшая побудительная причина для того, чтобы искать в науке подлинную идею и принципы искусства» (там же, 59).
Искусство, по самой своей природе призванное единить, а не раздроблять, — это сила, которая сама еще в свою очередь нуждается в преодолении вражды в своей собственной сфере. Философия искусства как раз и дает принцип единства для расколотого в себе искусства и разрозненных, враждующих друг с другом взглядов на него.
Статус философии, таким образом, восстанавливается: «Философия есть основание всего и объемлет собою все; свои построения она распространяет на все потенции и предметы знания; лишь через нее можно достичь Высшего» (11, 62). Вступление философии на почву искусства не должно менять существа ее. Философия искусства есть философия. «Наша наука должна быть философией, — настаивает Шеллинг. — Именно это существенно; а то, что она должна быть философией именно по отношению к искусству, есть в нашем понятии случайный признак» (там же, 63).
В деле наведения порядка в «романтическом хаосе», в стремлении привести к общему знаменателю раздробленность и пестроту воззрений немецких романтиков на искусство, вскрыть сущностное единство их взглядов и выразить его в философски обобщенной форме Шеллинг получил решительную поддержку от Гегеля, который сочувственно отозвался о начинании своего друга в письме к нему: «Немецкая литература подобна цветущей поляне, о которой кто-то сказал, что у него есть желание быть коровой, чтобы полакомиться на ней. Мне кажется вполне назревшей и благородной задачей лишить эту поляну ее дикого вида, выполоть весь сорняк, освободить полезные злаки и вновь придать ей вид полезного для человека земельного участка» (21, 2, 266).
Специальная разработка проблем философии искусства была начата Шеллингом еще в натурфилософский период (лекции по эстетике читались им с 1799 г.) и продолжена в системе трансцендентального идеализма, но основной круг его идей в этой области наиболее систематически и обобщенно выражен в контексте системы философии тождества в лекциях по философии искусства. Поскольку сфера эстетических идей имеет своим достоинством то, что ею можно воспользоваться как удобной лестницей для восхождения к вещам очень абстрактным и труднодоступным пониманию, то столь отвлеченный предмет, как философия тождества, легче всего может быть рассмотрен нами сначала в специфическом его приложении к области искусства.
Философия искусства базируется на выдвинутом в «Системе трансцендентального идеализма» положении, не получившем там (видимо, в силу его самоочевидности для романтиков) ни малейшего обоснования и никакого развития. «Существует, собственно говоря, лишь единое произведение искусства, — утверждалось там, — пусть имеется оно в любом количестве экземпляров, при всем том оно остается единственным, хотя вовсе не обязательно, чтобы существовало оно в своем изначальном облике» (10, 392). Принять такую посылку не составляет труда тому, кто проникся идеями созданной уже в основных чертах натурфилософии. А поскольку читающая публика быстро осваивала вехи новых принципов, выдвигавшихся автором, философское развитие которого происходило на глазах у нее, то Шеллинг считал себя вправе отмахнуться презрительным «крайняя отсталость» от всякого, кому искусство не представляется «замкнутым, органичным целым, столь же необходимым во всех своих частях, как и природа» (11, 56).
Еще до установления конкретного отношения между философией искусства и философией природы, из одной констатации подобия, или параллелизма их, можно вывести ряд черт, присущих философии искусства и ее предмету. Прежде всего мы имеем дело с наукой, которая должна сконструировать свой предмет, единый, обнимающий собою столь же замкнутый и завершенный в себе мир, как и природа (см. там же, 55).
Предмет философии искусства в «Системе трансцендентального идеализма» был дан как объект веры, не поддающийся рефлексии. Хотя он и был там по существу сконструирован, чтобы быть данностью, но само это конструирование словно бы не улавливалось автором, как если бы, пускаясь в поиск тождества сознательного и бессознательного, он уже пребывал в этом тождестве, как будто философ был охвачен творческим процессом, совпадающим с поэтическим творчеством, творил бы сознательно и вместе с тем сам не ведал бы, что творил. Ситуация вполне подходила под сказанное Новалисом о поэте: «…воистину творит в беспамятстве, оттого все в нем мыслимо. Он представляет собою в самом действенном смысле тождество субъекта и объекта… упорядочивает, связывает, выбирает, измышляет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не иначе» (цит. по: 30, 122).
Но вот интеллектуальное оцепенение от волшебных чар искусства прошло, мыслителю, по собственному его выражению, открылся «свет философии», и с твердой уверенностью, что умозрение способно проникать в «организм искусства» (11, 56) и постигать в нем чудеса нашего собственного духа, он решает превратить искусство в объект сознательного философского конструирования. Об искусстве как какой-то непроницаемой для разума «вещи в себе» уже нет и речи. Оно доступно познанию. Об этом говорили и другие представители немецкого романтизма, правда, говорили изредка и нехотя, чаще утверждая как раз противоположное. Но, даже представляя нам искусство недоступным рациональному познанию, «тайной» и т. п., они, как ни парадоксально, дали, преимущественно в беспорядочных, фрагментарных замечаниях, познавательного материала об искусстве, тонких и глубоких наблюдений больше, чем кто-либо из оптимистов познания в этой области. Что отличает Шеллинга от прочих романтиков и возвышает над ними — так это настаивание его на абсолютной познаваемости искусства; соответственно наука об искусстве должна быть, согласно Шеллингу, абсолютной.