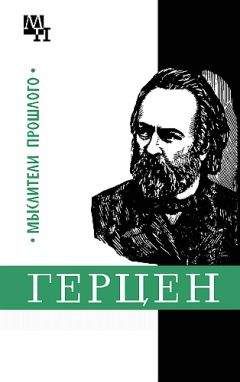Опыт идейно-философских исканий Герцена середины 40-х годов с его достижениями и ограниченностями — наглядное свидетельство того, что естественнонаучный материализм оказывался методологически недостаточным для решения тех вопросов, которые внесла в науку, в общественное сознание гегелевская философия.
Теоретическая драма Герцена состояла, в частности, в том, что если даже ему и удавалось преодолевать в каких-либо вопросах исторический идеализм, то это преодоление было только кажущимся: оно происходило обычно за счет низведения общественных явлений к явлениям природным, за счет сведения истории к естествознанию.
Вот пример. Поставив вопрос: чем определяется направление и содержание той деятельности, которая составляет сущность развития человеческой жизни? — Герцен ответил: разумом человечества. Но разум человечества для Герцена-материалиста не является чем-то мистическим; он есть совокупность индивидуальных человеческих разумов. А значит — поскольку разум, мышление каждого человека есть продукт его мозга, развитие человеческого общества определяется степенью развития мозга людей или, как говорит иногда Герцен, степенью развития мозгового вещества.
В мозге, как материальном теле, Герцен хочет найти ключ к пониманию нравственной стороны человека, к пониманию ее отношения к физической стороне. Мозг, для него, — факт физиологический и нравственный вместе (см. 9, II, стр. 149, 173), единственное материальное основание духовной жизни. Правда, Герцен ограждает себя — иногда иронией, иногда утверждением, что естествознание не дает ключа к пониманию общества, — от вульгарного материализма. «Здесь могут явиться вопросы, которых не осилит ни физика, ни химия, которые могут только разрешиться при посредстве философского мышления» (9, II, стр. 149), — пишет он, полагая, что посредством общетеоретических рассуждений можно прийти к правильному пониманию проблем сознания. Но при отсутствии в поле зрения реальных элементов правильного ответа «философское мышление» мало чем могло помочь. Вот и оставалось на вопросы: почему же люди не установят разумных отношений? Почему они не могут сообразить, как устроить свой быт, свою жизнь? Почему так «гадка действительность»? — отвечать иногда: люди больны, они сумасшедшие (см. 9, II, стр. 57, 65, 77), — или еще грубее: вещество большого мозга еще не выработалось у человека…
В конечном же счете, несмотря на эти натуралистические высказывания, Герцен придерживался в «Письмах» того взгляда, что история — как наисамостоятельнейшая сфера бытия — представляет собой процесс диалектического развертывания разума человечества. Нормальный закон развития «во всей алгебраической всеобщности» дается логикой (см. 9, III, стр. 136), считал Герцен. Это находилось в полном соответствии с Гегелем. Разумность истории только и могла, как казалось Герцену, быть порукой осуществимости социалистического идеала. Ведь если дело обстоит иначе, то где же гарантия того, что человеческий род не «сошел с ума»?
Иначе говоря, цельность мысли Герцена, его вера в благоприятную социальную перспективу опирались на идеалистическую в целом философию истории. Только благодаря этому идеализму, а точнее говоря, концепции разумности действительности, Герцен и мог смотреть оптимистически на будущее человечества: да, в мире идет борьба противоречий, подчас торжествует косное зло[49], но силы добра, разума, справедливости в конечном счете победят инерцию материи, повергнут силы зла…
Кое-какие факты социальной действительности помогали в это верить. Через несколько дней после получения известий о выступлениях рабочих в Силезии и Чехии (1844 г.) Герцен записывает в дневнике: «Да, недвижимое имущество здесь и награда там. Это две цепи, на которых и поднесь водят людей. Но теперь работники принялись потряхивать одну из них, а другая давно заржавела от лицемерных слез пастырей о погибших овцах. Наши внуки увидят» (9, II, стр. 376).
7. «Сделать философию практическою…»
В историческом развитии связь философии с политикой выступает обычно как очень сложная и опосредованная. В сочинениях же Герцена 40-х годов философия, как мы видим, занимает место ближайшей отправной теоретической посылки для практического действия и социалистического идеала.
В таком отношении к философии Герцен был не одинок. Подобные формы общественной мысли в виде радикально-социалистической интерпретации гегельянства развивались в ряде стран Европы 30—40-х годов XIX в. Выросшее в той или иной степени из так называемого левого гегельянства, это течение философско-политической мысли (его условно можно определить как «философию практики» или «философию действия») представлено, помимо Герцена, целой группой мыслителей. Среди них А. Чешковский, А. Руге, М. Гесс, В. Белинский, М. Бакунин, Ф. Клацел, А. Сметана, Э. Дембовский, Г. Каменьский и др.
Социальные и философские взгляды этих мыслителей существенно различались между собой, что объясняется как спецификой национальных условий, разным характером решавшихся непосредственных задач, так и своеобразием мышления каждого отдельного мыслителя. Имелись значительные отличия также и в самосознании ими смысла и направленности своего творчества и т. п. Однако вместе с тем радикальные философско-политические концепции упомянутых мыслителей Германии, Польши, Чехии и России имели и некоторые более или менее общие черты. Интегрально их можно охарактеризовать следующим образом.
За основу философии истории принимается гегелевская диалектика как принцип постоянного движения, осуществляющегося в виде отрицания, борьбы нового со старым, в которой силы разума неизбежно— хотя и не сразу — одерживают победу. Представление об истории как борьбе революционного идеального начала против начала косного, инертного, материального выступает как философское основание острой критики тех сторон социально-политической действительности, которые представляются несоответствующими, противоречащими разуму.
Под огонь критики попадают при этом не только атрибуты правящих режимов — церковь, цензура, полиция, распоряжения и действия правительства и т. д., но и сам Гегель, точнее говоря, его политическая консервативная платформа. В ней усматривается своеобразная дань философа старому, приспособление его к существующему, противоречащее его собственному методу.
Углубление критики Гегеля приводит, далее, к тому, что заимствованная из его философии идея неодолимого шествия человечества ко все большей свободе истолковывается таким образом, что гегелевская концепция в целом обвиняется в неисторическом и намеренном завершении общественного процесса. Философия, вместо того чтобы замыкаться в собственной абстрактно-теоретической сфере, должна теперь раскрыться в действительности, должна быть «ринута в жизнь». «В лице Гегеля, — писал Белинский, — философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же она и кончилась как знание таинственное и чуждое жизни; возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь… Начало этого благодатного примирения философии с практикой совершилось в левой стороне нынешнего гегелианизма. Примирение это обнаружилось и жизненностию вопросов, которые занимают теперь философию, и тем, что она оставляет понемногу свой тяжелый схоластический язык…» (11, VII, стр. 50).