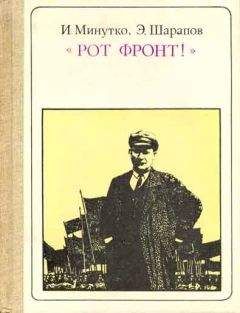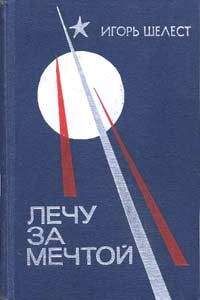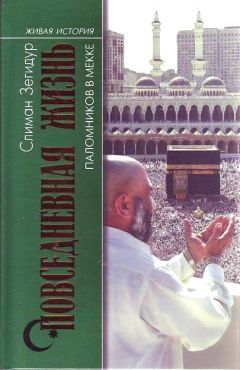Кругом царит глубокая тишина. Только птицы поют свои утренние песни. В голубом просторе стремительно проносятся ласточки, сверкая иногда в прекрасных солнечных лучах.
В самой глубине моей души рождается мысль о том, как все же мал и пустынен этот здешний мирок, эта пустота безлюдья и одиночества. Стою, охваченный раздумьем, совсем тихо и безмолвно. Вдруг издалека до меня доносится эхо пронзительных свистков паровоза. Дорогая родина! Вновь вспоминаю твой далекий образ. Передо мной проходят живые, широкие, незабываемые картины прежних троиц. Вот уже третью троицу вынужден я пережить, прозябая в этом давящем и отупляющем тюремном мире; каким длинным кажется мне этот отрезок времени, но вместе с тем как быстро бежит время! Когда же наконец придет тот счастливый час, то новое троицыно утро, утро золотой свободы?
Тысячу горячих приветов из Моабита шлет вам всем
ваш любящий Эрнст».
...В конце сентября 1935 года Тельмана официально предупредил следователь: если в письмах он будет затрагивать политические проблемы, переписку запретят.
Из письма Эрнста Тельмана жене 21 октября 1935 года:
«Ведь наша нынешняя совместная духовная жизнь в значительной части проявляется в наших письмах. Неужели я должен отказаться писать письма, отречься от этого удовольствия проявления своего жизненного чувства? Нет! Мне было бы тяжело отказаться от этого: молчание повседневно беспокоило бы меня и делало бы намного тяжелее одинокие и безмолвные часы моего заключения. Если бы я уже стал человеком, чувства которого охладели и погасли, то, пожалуй, мог бы терпеть это, но во мне еще жива любовь к человеку, любовь к ближнему, которую нельзя оградить холодной решеткой тюрьмы. Здесь, в полнейшем одиночестве, все же пытаешься как-то выразить свои мысли, свою духовную жизнь, вспоминая ли любимую родину, нашу борьбу, полную превратностей и испытаний, собираясь со всеми духовными силами, занимаясь кропотливыми поисками чего-то животворного, чем и является в жизни политика...
Увековечить в письмах незабываемые часы прошлого мы можем серьезно только тогда, когда правда говорит с правдой, то есть в данном случае, когда затрагиваешь и анализируешь нашу политическую борьбу. Где здесь еще можно искать и найти утешение и прибежище чувствам, где проявить тесную духовную взаимосвязь, как не в письме!.. Жизнь и обстоятельства вызвали эту нежелательную разлуку, но наша воля может преодолеть ее или перекинуть через нее мост, чтобы человек общался с человеком, душа с душой, хотя бы только письменно. Чувство духовного единства и нерушимая прочная любовь, соединяющие нас, противоборствуют разлуке, которую нам навязывают тюремные затворы. Письмо создает возможность общения между людьми, стремящимися к одной цели и теснейшим образом связанными между собой... Письмо, в котором ведь вполне можно выразить самые глубокие движения души, должно помочь нам преодолеть нежеланную разлуку и придать нашей совместной жизни определенную духовную форму и связь».
А судебный процесс все откладывался н откладывался...
Но Эрнст Тельман не терял надежды. В ней был смысл его тогдашнего существования.
Из письма Тельмана жене 27 августа 1935 года: «...только одна просьба к тебе. Мои брюки постепенно протираются на коленях. Боюсь, что они не выдержат до процесса».
В Политбюро Коммунистической партии Германии уже с лета 1935 года в результате кропотливого анализа того, что предпринимало фашистское следствие по делу Тельмана, все больше убеждались: гитлеровское правительство, помня урок суда над Георгием Димитровым, страшится предстоящего процесса и, похоже, вообще не пойдет на него. И тогда была сделана ставка на план, который начал вызревать еще осенью прошлого года.
В августе в камере Тельмана появился новый надзиратель. Он был молод, лет двадцати пяти, высок, худ, с большим лбом в пол-лица; на Эрнста дружественно смотрели внимательные карие глаза.
- Меня зовут Эмиль Мориц, - сказал он. И добавил, понизив голос: - Я социал-демократ. Можете мне доверять.
* * *...Тридцать первого октября 1935 года в Берлине был непривычно солнечный день. Эрнст шагал по тюремному двору Моабита, наступая на коричневые похрустывающие листья каштанов, занесенные сюда ветром; в прозрачном воздухе поблескивала паутина.
Первого ноября с раннего утра небо нахмурилось, и хлынул дождь. В одиночной камере главного узника фашистской Германии в блоке «С-1» Моабитской тюрьмы стало совсем темно.
...Во второй половине дня, после обеда (прогулка была отменена из-за дождя) в камере появился следователь доктор Цигер, который в последние месяцы вел все допросы. Флегматичный, вялый Цигер любил сидеть на кровати, привалившись жирной спиной к стене; у Тельмана было постоянное ощущение, что занимается нацистский следователь опостылевшим ему делом.
На этот раз Цигер неторопливо прошелся по камере, вздохнул.
- Что же, господин Тельман... - Голос был тускл и невыразителен. - По всей видимости, мы с вами беседуем в последний раз.
Эрнст испытал мгновенный озноб, застучало в висках.
«Наконец-то! Суд... Неужели суд?»
Доктор Цигер извлек из портфеля два листа глянцевой бумаги.
- Имею честь вручить вам эти документы. Вот первый. Прошу.
Наверху листа черными готическими буквами значилось: «Берлинский народный суд». Адрес...
Строчки плясали перед глазами. Почти не веря в реальность происходящего, Эрнст читал:
«Решение
по уголовному делу транспортного рабочего Эрнста Тельмана, обвиняемого в заговоре и призыве к государственной измене,
2-й сенат палаты народного суда на своем заседании 1 ноября 1935 года по предложению верховного прокурора
постановил:
обвиняемый Тельман - при сохранении в силе приказа об аресте только ввиду подозреваемом возможности побега - освобождается от дальнейшего отбывания предварительного заключения.
После освобождения обвиняемый обязывается ежедневно являться в соответствующий полицейский участок по месту пребывания.
Брунер. Вайе. Д-р Цигер.
Составлено
в Берлине 1 ноября 1935 года
Делопроизводитель 2-го сената палаты
народного суда Кислинг, судебный советник».
Под круглой печатью с фашистской свастикой в правом углу листа можно было прочесть: «Господину Эрнсту Тельману. Берлин - Моабит».
Нет, он еще не верил в то, что прочитал... «Свобода! Я освобожден! - Все оркестры мира в едином согласии грянули торжественный хорал. - Сейчас откроются тюремные двери...»
- Когда я могу уйти отсюда? - Голос его сорвался.