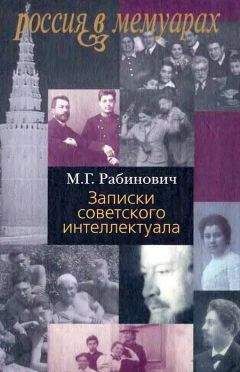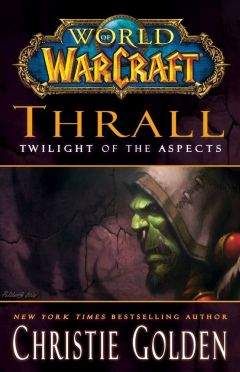А тогда моим главным увлечением, которое, пожалуй, даже лучше заметили педагоги, чем я сам, была литература. Раиса Михайловна Сахарова — высокая, красивая стриженая блондинка с немного капризным выражением лица, ни в чем (за исключением, конечно, грамматики) не навязывала нам своего мнения. Однако умела незаметно организовать круг нашего чтения. Очень много значили ее рекомендательные списки, которые диктовались нам незадолго до каждых каникул с весьма интересными комментариями:
— Обязательно прочтите «Пошехонскую старину»! — говорила Раиса Михайловна. — Вы думаете, что помещики жили широко, прожигали жизнь. А там вы прочтете, как выколачивали из крестьян каждую копейку, как жалели для семьи каждый кусок, как не умели толком и повеселиться!
Она привела как-то в школу настоящую сказительницу — и мы слушали народное исполнение русских сказок.
В кружке у Раисы Михайловны я сделал и свой первый доклад — о Вересаеве.
Нет, нам безумно повезло!
Мы попали в школу в период ее перестройки, попали в руки учителей, любивших свое дело. Одни из них преподавали еще в алелековской гимназии, другие пришли в школу недавно. Но работали они дружно, относились к нам внимательно и по-товарищески. Тогда мне, да и другим, казалось, что учителя наши немолоды и даже просто стары. Но, судя по тому, что с нами учились их старшие дети: Витя Шиманский, Юра Гулевич, Наташа Михальченкина, — нужно думать, что многим из наших учителей было в ту пору лет тридцать пять. Через много лет я увидел в архиве Академии наук старую фотографию — группу учителей и учеников нашей школы. Как молоды показались мне — пятидесятилетнему — мои тогдашние учителя! И среди них Михаил Николаевич Тихомиров едва ли не самый молодой. А в те годы в наших глазах он был человеком пожилым.
Школой заведовала тогда уже Лариса Георгиевна Оскина, которую мы уважали и любили. У нас не было того надуманного конфликта с учителями-«шкрабами», о котором можно прочесть в литературе тех лет[55]. Но так было не во всех школах. Помню, как мой старший брат и его товарищи (я учился не в той школе, где братья) упорно боролись с заведующей учебной частью — какой-то Верой Федоровной — и даже выпускали «подпольный» журнал «Корова под мышкой» (что должно было означать: «в малом объеме большое содержание»).
Нет, мы дружили с нашими учителями.
Не помню, кто из них был вдохновителем театральных действ — иначе я не могу назвать бывавших в нашей школе спектаклей. Помню наших любимых «актеров» — братьев Евграфовых, братьев Каргиных (у нас были свои актерские династии!). Первые спектакли, которые я видел еще младшегруппником, были какими-то гротескными, направленными против мирового Капитала. Там действовали и буржуй в цилиндре, и рабочий в блузе, конечно — с молотом, и стриженный в скобку мужик. Были куплеты, танцы и модное тогда (к тому же выгодное для школы) отсутствие декораций. Позднее та же труппа ставила, помнится, пьесу об английском социал-предателе — «Бен Виллард». Постановка была в духе Мейерхольда, с акробатическими номерами и появлявшимися перед каждым актом герольдами в рабочих комбинезонах, объявлявшими, что сейчас будет, совсем так, как тогдашние продавцы газет, бывало, выкрикивали их содержание. Но когда мы уже стали старшими, репертуар и характер спектаклей сильно изменился. Появились и веселый джаз-банд (тогда еще не говорили «джаз»), и живая газета. Больше «прорабатывались» школьные дела и меньше — международное положение.
Делегат на первый слет,
Выделенный нами,
Сделать нам не мог отчет,
Хлопал лишь глазами.
Отчего, почему, почемуточки?
Не дела у нас, а все шуточки! —
пели, водя хоровод, пионеры, а в центре круга в комически-жалкой позе стоял их настоящий делегат на первый пионерский слет — Миша Каплан, который, как говорили, и в самом деле отчитался только в том, какое было угощение.
Часто устраивали литературно-музыкальные вечера-концерты, и там появились новые таланты, хотя и наши старые любимцы, окончившие школу и учившиеся на спецкурсах, тоже блистали в новом амплуа. Толстушка с русой косой — Юля Семенцова — обладала милым голоском и хорошим репертуаром. Рива Дубинина познакомила нас с Апухтиным. Конечно, непревзойденным был чтец комических стихов и пародий Толя Флексер. Преобладал все же классический репертуар — стихи Пушкина и Лермонтова, которые с большой экспрессией читал Евграфов.
Но мы любили и своих доморощенных поэтов. Традиции литературного творчества в нашей школе были сильны. Начало ее, возможно, восходит к Цветаевой; у нас постоянно говорили о «Славе Смелякове» и «Женьке Долматовском». Не знаю, правда ли, что и они учились в нашей школе, во всяком случае, я их не помню. В мое время первым школьным поэтом был Толя Фирсов, а вторым — Лева Вайншенкер. Слава их гремела, и нам особенно нравилось, когда они выходили на авансцену и обращались друг к другу со стихами, запросто, как братья-поэты. Из уст в уста передавали их экспромты. Например, когда у Толи подменили в раздевалке калоши, он изрек:
Чем дальше в лес, тем больше дров —
Приду домой я без штанов!
Стихи были немедленно опубликованы в стенной газете, конечно, с деликатными точками на месте слова «штанов» (это тоже было веяние времени).
Сам я не грешил тогда ни стихами, ни прозой, но именно в школе началась моя, если можно так выразиться, редакторская деятельность: в седьмой группе меня впервые избрали в редколлегию стенгазеты.
В те далекие годы не считалось еще, что каждый школьник должен быть пионером. Пионеров у нас было мало, и для «смычки» со всеми школьниками учредили «форпост». Мы отнеслись к нему с большим интересом. На первое же «заседание форпоста» пришла почти вся школа. И в самом деле оказалось занятно. Все собрались в большой круг, в центре которого за столиком сидел носатый, плотный, курчавый брюнет — председатель нашего форпоста Агрест. Не помню, говорил ли он какую-нибудь вступительную речь: кажется, я опоздал. Он громко выкрикивал какие-то вопросы из текущей политики. Вскоре слышался слабый голос отвечающего, но, видно, все мы попадали «не в дугу». Агрест только отмахивался, как от назойливой мухи, и кричал:
— Хе! Пейрос!
И сидевший поблизости от него, сгорбившись, огромный по сравнению со всеми нами, черный, как жук, мальчик в очках и юнгштурме[56] твердым, звонким голосом давал абсолютно правильный ответ, вполне удовлетворявший Агреста.
— Что это за Хепейрос? — спросил я кого-то.
— Какой тебе Хепейрос! Это — Пейрос из группы «А». Он недавно перешел в нашу школу.