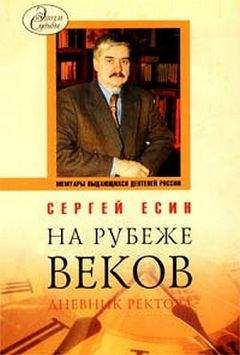Можно говорить об особой значимости для автора поиска новаторской формы, своей стилистики, средств выражения. Из некоторых его признаний видно, что он ценит в своих «Дневниках» своеобразие формы: «романное повествование», «личностная интонация», «тексты мои — не биографически-протокольные, а скомпонованные, придуманные» и т. д. Но я хотел бы, предваряя знакомство читателя с книгой, выделить другую особенность ее. Многое поясняет в «стилистической позиции» автора вскользь иронически брошенное им словцо «духмяное» в отношении той литературной продукции, которую обычно называют «кондовой», «доморощенной», изготавливаемой «на завалинке». Не стоит путать эту «кондовость» с той подлинной традиционной крестьянской культурой, которая, как известно, была колыбелью и самой классической русской литературы. Нынешняя же «духмяность» лишена того, без нет энергии слова — современного ощущения бытия, моральной стойкости, самой элементарной духовной культуры.
Имея в виду в худшем смысле слова провинциализм мышления иных «патриотов», автор замечает, что они «не хотят знать ничего, кроме своего». Сам же он не считает зазорным работать в «контексте мировой литературы». В этом смысле он — «западник». Отправляясь во Францию, он берет с собою в качестве «путеводителя» по этой прекрасной стране Пруста, его «Содом и Гоморру», в парижской гостинице перечитывает эту книгу, цитирует ее, делает сноски, его тянет к «собеседованию с господином М.Прустом». Когда я был в Париже, меня тянуло к «собеседованию» с Паскалем, книгу которого «Мысли…» я взял с собою из Москвы, влекло меня к нему просто по контрасту с внешними впечатлениями от кишащей уличной жизни «мировой столицы». Собеседник Сергея Николаевича Марсель Пруст вызвал в моей памяти ту давнюю историю с моей статьей о нем, когда я за нее подвергся атаке целой дюжины член-корров АН и докторов (журнал «Литературное обозрение», № 6, 1975). Попало мне за то, что я не принял принципа релятивности, морального нигилизма этого французского модерниста. И я не думаю, что Сергею Есину, восхищающемуся Прустом, его стилистической новизной, изысками, «ассоциациями» и прочим, что писателю Есину, видящему во фразе, абзаце, в их физиономии — суть прозы, — не думаю, что его чарует абзац из текста того же Пруста, где понятия божественные смешаны на равных правах с понятиями обратного смысла, высокое — с низменным и т. д. Как бы ни был автор «Дневников» озабочен «формой», «новаторством», — главное для него — «суть» («Во всем мне хочется дойти до самой сути» — Б.Пастернак). И эта суть в данном случае — в этической определенности, неразмытости нравственных критериев. В этом смысле он — писатель традиционно русский.
Уже чисто русская черта — литературоцентризм, одержимость ею, этой проклятой литературой как изнурительным пожизненным бременем. В записи конца 1998 года вырывается: «А ведь и себе и всем говорю, что только ради этого и живу. Точнее было бы сказать — проживаю». Но ведь именно живет, а не занимается литературой, как на том же Западе, где литература в основном такое же профессиональное занятие, как адвокатура, медицина, бизнес и т. д.
Форма — это не искусственное изобретение, не раз и навсегда заданный жинр для всех. Толстой говорил в том смысле, что каждый писатель пишет свой роман и каждый раз этот роман — новый, неповторимый, потому что в нем выражена неповторимая личность автора, и она, эта личность, накладывающая свою печать на все произведение, и составляет главный интерес его. И, говоря о «Дневниках» Есина, можно сказать, что своеобразие их, прежде всего, в личности самого автора. И здесь примечательны не столько его авторекомендации, вроде «я — консерватор-либерал», сколько само его поведение и психологические акценты его. Писать смело, откровенно о себе трудно и рискованно. Умственный змий Василий Розанов, добивавшийся предельной искренности самохарактеристики, мог сказать о своей душе, что в ней «смесь грязи и нежности», или выставить неприглядно свою физиономию с «выпученными глазами» — и что же? Не чувствуется ли в этой «прямоте» та недосказанность, некий налет эстетизации, которые напоминают увиливание героев «Идиота» Достоевского от договоренности в игре «пети-же» не скрывать всей правды от содеянных дурных поступков? Как помним, они не договаривали всей подноготной их, на что Фердыщенко, выложивший все о себе до конца, завопил от возмущения: «Надулди меня». И к тому надувательству чуток читатель. Автор «Дневников», кажется, с юмором поддержал бы самоотреченность правдолюбца. Но, помимо шуток, он действительно не боится говорить о себе то, о чем другие помалкивали бы. Да и в официальных отношениях с теми, от которых он зависит как госчиновник (ректор Литинститута), он держится независимого мнения: «Почему-то, когда я вижу лужковскую фрачную тусовку, всегда вспоминаю фильм «Однажды в Америке». Как же хорошо сидели черные костюмы и белые рубашки на героях американского разбоя!» Подобные же «комплименты» можно услышать со страниц «Дневников» и в адрес «сильных мира сего», некоторые из которых побывали по инициативе ректора в Литинституте на встрече со студентами и преподавателями (Путин и другие).
Здесь следует заметить, что трудно назвать другого современного писателя, у кого была бы такая интенсивность связей с представителями самых разных социальных слоев, начиная от «низших» — до столичного «бомонда» и правителей. И как много говорит уже одна сама оседающая в есинских записях информация о встречах, разговорах с ними. Иногда одно имя становится как бы знаком времени. Вот, например, упоминаемый в дневнике некто М. Я вспоминаю, как в мае 1991 г. мой студент литинститутского семинара, армянин прислал мне из Еревана пакет материалов по Карабаху, предмету горячей распри между Арменией и Азербайджаном. В числе прочего была там и брошюра М. «По дорогам Карабаха», составленная из шести его передач по радиостанции «Свобода». В своей статье «Слепота» (журнал «Наш современник», № 11, 1991) я подробно писал о роли этого юного «народного депутата Моссовета», сеявшего в Карабахе и Армении ненависть к русским солдатам, к России. И вот из «Дневников» Есина я узнаю, что тот юный подстрекальщик в Карабахе — ныне житель подмосковного, под вооруженной охраной с колючей проволокой легендарного (в районе Барвихи и Успенского шоссе) заповедного места — с гнездом сказочных дворцов и усадеб новых хозяев жизни. По богатству, по «образу жизни» этот еще недавний аспирантик-журналист смахивает уже из султанчика.
Все это видится мне, когда я читаю есинские строки об этом персонаже: «Я уже традиционно смотрю на его новую дачу — третью — и по этим крохам представляемой мне действительности изучаю новую жизнь».