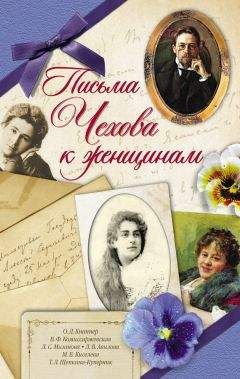девица. Играй себе помаленьку да обо мне иногда вспоминай.
О. Л. Книппер – А. П. Чехову
13-ое окт. 1900 г., Москва
Еще раз пишу тебе, мой ялтинский отшельник, хотя искренно хочу, чтобы мое письмо не застало тебя на юге. Ведь ты уже собираешься в дорогу, правда? Я тебя жду, жду, жду отчаянно. Чего же тебе еще писать? О себе? Я сплю, ем, играю на сцене; живу ли я? Не знаю. Мне все кажется, что у меня жизнь или прошла, или вся в будущем. Что вернее, как ты думаешь? Эти дни чувствую себя плохо, должно быть простудилась. Вчера, слава Богу, не играла, и вечером пошла с Машей на «Снегурку» в Новом театре и очень была рада, что пошла, т. к. яснее чувствую теперь все заслуги нашего театра и вижу его промахи [165] . И теперь уже не считаю нашу «Снегурку» проваленной и нос не вешаю. Ты приедешь – все увидишь непременно, все спектакли – как я радуюсь этому! Ты приедешь милый, хороший, ласковый, да? Я тебя помню таким, каким ты был в минуту нашей разлуки на Севастоп. платформе – так ты и врезался в моей памяти – твое лицо твое выражение.
С нетерпением жду телеграммы, присылай скорее, скорее. Сегодня ты бы должен быть здесь, нет – завтра, если бы выехал 12-го, как предполагал. Почему ты все меняешь свои планы?
Ну, будь здоров, до скорого свиданья, тянучка моя, целую тебя и обнимаю.
Твоя Ольга
О. Л. Книппер – А. П. Чехову
11-ое дек. 1900 г., Москва
Я не могу примириться с тем, что мы расстались. Зачем ты уехал, раз ты должен быть со мной, – ты ведь мой? Вчера, когда уходил от меня поезд и вместе с ним и ты удалялся, я точно первый раз ясно почувствовала, что мы действительно расстаемся. Я долго шла за поездом, точно не верила, и вдруг так заплакала, так заплакала, как не плакала уже много, много лет. Я рада была, что со мной шел Лев Ант., я чувствовала, что он меня понимает, и мне нисколько не стыдно было моих слез. Он так был деликатен, так мягок, шел молча. На конце платформы мы долго стояли и ждали, пока не уйдут эти люди, провожавшие тебя, – я бы не могла их видеть, так они мне были противны. Мне так сладко было плакать и слезы были такие обильные, теплые, – я ведь за последние годы отвыкла плакать. Я плакала и мне было хорошо. Приехала к Маше, села в угол и все время тихо плакала; Маша сидела молча около меня, Марья Тимофеевна в другой комнате тихо разговаривала с Сулержицким. Конец главы. Потом они перешли к нам и Лев Ант. начал тихо экзаменовать двух Марий по физике, геометрии, тихо смешил нас. Я сидела уткнувши нос в подушку и слушала все как сквозь сон. Что-то он им много рассказывал из своей жизни, показывал фокусы, а я уже совсем забылась, мысленно ехала с тобой в вагоне, прислушивалась к мерному стуку колес, дышала специфическим вагонным воздухом, старалась угадать, о чем ты думаешь, что у тебя на душе, и все угадала, веришь?
Потом мы тихо поужинали. Сулержицкий и Дроздова смешили нас, – у них установились какие-то курьезные отношения и особая манера разговаривать. Они ушли, а мы легли спать. Спала плохо, тяжело, встала поздно, к 12-ти пошла в театр, узнала, что репетиции нет, т. к. репетируют «Штокмана», Раевская больна и ее заменяет Кошеверова, чтоб не ломать спектакля. Из театра пошла к Раевской, – навестить. У меня было хорошо и мягко на душе, и снежок так хорошо сыпал: я люблю ощущение такого покоя и тепла. Раевская еле говорит, лежит, у нее сильнейший бронхит при температуре 39,2. Потом приехала домой, поболтала с Элей и Володей, пообедала, почитала Д’Аннунцио и села тебе писать, мой милый, хороший Антон.
В субботу ты, верно, получишь мое письмо, ведь на 5-й день приходят письма? Как ты доехал? Каковы оказались твои спутники, не беспокоили тебя сигарой? Разговаривал ли с ними? Сейчас нет 5-ти час, в 9 ч. ты будешь в Варшаве. Смотри не простудись при переходе в другой поезд, ради Бога, береги себя, и не сердись на меня, что пишу об этом, милый мой, и называй меня по-прежнему и «дуся», и «собака» и «славная девочка», да?
Антон, знаешь, я боюсь мечтать, т. е. высказывать мечты, но мне мерещится, что из нашего чувства вырастет что-то хорошее, крепкое, и когда я в это верю, то у меня удивительно делается широко и тепло на душе, и хочется жить и работать, и не трогают тогда мелочи жизненные, и не спрашиваешь себя, зачем живешь. А ты во мне поддерживай эту веру, эту надежду, и нам обоим будет хорошо, и не так трудно жить эти месяцы врозь, правда, дорогой мой? Мне почему-то кажется, что ты не нехотя сядешь писать теперь, а напротив, отдохнешь, пофланируешь по Ницце и самого потянет за письменный стол.
А я буду знать, что ты пишешь? Хоть вкратце.
Я все вспоминаю наше прощание в Севастополе и прощание вчерашнее. Насколько последнее сильнее и определеннее, правда?
Буду жить, работать, киснуть не буду, а буду мечтать о весне, о нашем свидании. И ты тоже, милый мой, родной мой? Целую твою милую голову и хорошие глаза твои, и мягкие волосы, и губы, и щеки, и умный лоб и прижимаю тебя к груди, и люби, люби меня и пиши чаще
твоей собаке
А. П. Чехов – О. Л. Книппер
12 дек. 1900 г., Вена
Милая моя, какого я дурака сломал! Приехал сюда, а здесь все магазины заперты, оказывается – немецкое Рождество! И я не солоно хлебавши сижу теперь в номере и решительно не знаю, что делать, что называется, дурак дураком. Дорожных ремней купить негде. Одни только рестораны отперты, да и те битком набиты франтами, около которых я показался бы просто замарашкой. Ну, да что делать!
Завтра я уезжаю в Nice, a пока с вожделением поглядываю на две постели, которые стоят у меня в номере: буду спать, буду думать! Только обидно, что я здесь один, без тебя, баловница, дуся моя, ужасно обидно. Ну, как живешь там в Москве? Как себя чувствуешь? Идут ли репетиции? Далеко ли ушли? [166] Милая, всё, всё пиши мне, подробнейшим образом, каждый день! Иначе у меня будет настроение черт знает какое.
От Бреста до Вены нет снегу. Земля сегодня кислая, как в марте. Непохоже на зиму. Спутники у меня