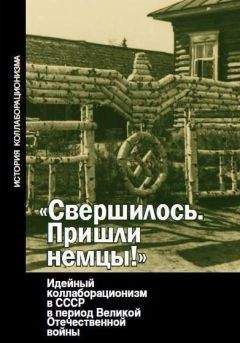Ознакомительная версия.
Поглощенные мыслью о том, что сейчас будет в гетто, мы отправились на работу, чувствуя себя совершенно разбитыми. Вне всяких сомнений, начался новый этап ликвидации гетто. Рядом со мной шел младший Пружанский, тревожась, удастся ли его родителям, которые остались дома, улучить момент и где-то спрятаться, чтобы избежать депортации. А у меня был другой, довольно специфический, повод для огорчения: я оставил в комнате на столе авторучку и часы — все свое богатство. Я рассчитывал продать эти предметы, и если бы мне удалось бежать, то на вырученные деньги я сумел бы протянуть несколько дней — до тех пор, пока друзья помогут как-то устроиться.
В тот вечер мы в гетто не вернулись. Какое-то время нас оставляли ночевать на Нарбута. И только позже узнали, что в это время делалось в гетто: люди как могли сопротивлялись отправке на смерть. Прятались в приготовленных заранее тайниках, а женщины поливали лестничные клетки водой, которая превращалась в лед, и немцам было труднее подняться на этажи. В некоторых домах жители забаррикадировались и вступили в перестрелку с эсэсовцами, решив погибнуть с оружием в руках вместо того, чтобы дать задушить себя в газовой камере.
Из еврейского госпиталя забрали больных прямо в белье, погрузили в ледяные вагоны и вывезли в Треблинку. Но все же, благодаря этому первому акту вооруженного сопротивления со стороны евреев, за пять дней немцы смогли вывезти не более пяти тысяч человек вместо запланированных ими десяти тысяч.
На пятый день вечером Зигзаг сообщил, что акция «очистки гетто от паразитических элементов» закончена и мы можем наконец вернуться домой. Сердце у меня колотилось как молот. Улицы гетто являли ужасающую картину. Тротуары были засыпаны битым стеклом. Сточные канавы забиты пером из разорванных подушек. Перья были везде. Каждое дуновение ветра поднимало облака перьев и рассыпало их вокруг, словно снег, который падал наоборот — с земли на небо. Везде лежали человеческие останки. Кругом такая тишина, что звук наших шагов отражался долгим эхом от стен домов, будто мы шли по горному ущелью.
В разоренной комнате никого не было. Все брошено так, как оставили родители Пружанского перед депортацией. Нары после последней ночи, которую они провели здесь, не застланы, а на погасшей печурке стоит кастрюлька с кофе, который им уже не суждено было выпить. Ручка и часы лежали на столе так, как я их оставил.
Теперь нужно было действовать как можно скорее и как можно энергичнее. Во время следующей акции, которая, очевидно, не за горами, меня тоже могут схватить. При посредничестве Майорека я сумел договориться с друзьями — молодой парой из творческой интеллигенции. Он, Анджей Богуцкий, был актером, а она — певицей, выступавшей под своей девичьей фамилией: Янина Годлевская.
В один прекрасный день Майорек сообщил мне, что они придут ко мне в шесть вечера. Я воспользовался моментом, когда рабочие-«арийцы» отправлялись домой, и незаметно приблизился к воротам. Супруги пришли вместе. Мы почти не разговаривали. Я передал им свои сочинения, авторучку и часы — все, что хотел забрать отсюда с собой. Для этого я заблаговременно принес эти вещи из гетто и спрятал на складе. Мы договорились, что Богуцкий придет за мной в субботу в пять часов. На объекте в это время ожидали какого-то генерала СС с инспекцией. Я рассчитывал, что переполох, обычно сопутствующий таким визитам, поможет мне бежать.
Тем временем нервное напряжение в гетто возрастало, воздух был пропитан тревогой и ожиданием. Начальник еврейской полиции, полковник Шеринский, покончил с собой. Должно быть, он узнал нечто не оставлявшее никаких сомнений, что это конец, если даже такой человек, как он — нужный немцам и имевший с ними тесные связи, то есть такой, кого вывезли бы в последнюю очередь, — не нашел для себя иного выхода, кроме смерти.
Каждый день к нашей бригаде прибивались чужаки, чтобы, оказавшись за стенами гетто, совершить побег. Не всем это удавалось. С «арийской» стороны их ждали «шмальцовщики»[2] — платные агенты или просто любители выследить еврея, напасть на него в ближайшем переулке и ограбить, забрав все его деньги и золото. После этого обобранного человека, как правило, сдавали в гестапо.
В субботу я уже с самого утра не находил себе места. Пройдет ли все гладко? Любой неосторожный шаг мог означать немедленную гибель. Во второй половине дня действительно явился генерал с инспекцией. Все внимание эсэсовцев было поглощено этим визитом, и мы на какое-то время остались без надзора. Примерно в пять часов рабочие-«арийцы» отправлялись домой. Я надел пальто, первый раз за три года снял повязку с голубой звездой и в толчее вместе с ними миновал ворота.
На углу Вишневой стоиял Богуцкий. Значит, пока все хорошо. Заметив меня, он быстро пошел вперед. Я двинулся за ним, поотстав на несколько шагов и высоко подняв воротник, стараясь и темноте не потерять Богуцкого из виду. Улицы были пустынны, горящие фонари попадались редко — в соответствии с правилом, принятым с начала войны. Лишь бы не наткнуться на немца, который мог бы рассмотреть мое лицо. Мы шли быстрым шагом, по самой короткой дороге, но мне все казалось, что нет ей конца. Наконец, мы у цели — у дома на улице Ноаковского, 10, где я должен был спрятаться на шестом этаже в художественной мастерской, хозяином которой был один из лидеров Сопротивления — композитор Петр Перковский. Мы взбежали наверх, перескакивая через три ступеньки. В мастерской нас ждала Годлевская, которая уже не находила себе места от волнения. Увидев нас, она вздохнула с облегчением.
— Ну наконец-то!
И, всплеснув от радости руками, сказала, обращаясь ко мне:
— Когда Анджей ушел за тобой, до меня дошло, что сегодня тринадцатое февраля, а ведь это число приносит несчастье…
Ателье, где я находился и где предстояло пробыть еще какое-то время, представляло собой довольно просторное помещение со стеклянным потолком. Две двери в противоположных концах ателье вели в маленькие спальни без окон. Богуцкие приготовили мне раскладушку. После казарменных нар, на которых раньше спал, эта постель показалась мне необыкновенно удобной. Сам факт, что я не вижу немцев, не слышу их криков и не приходится опасаться, что каждую минуту любой эсэсовец может меня избить или даже убить, давал ощущение счастья. Я старался не думать о том, что ждет впереди и доживу ли вообще до конца войны.
Известие, которое однажды принесла Богуцкая, прибавило сил: она сказала, что советские войска отбили Харьков. Но что будет со мной? Приходилось считаться с тем, что мое пребывание в мастерской не продлится долго. Перковский должен был в ближайшие дни найти жильца, хотя бы потому, что немцы объявили перепись населения, во время которой полиция станет обыскивать квартиры и проверять, все ли там зарегистрированы и имеют право на проживание. Почти каждый день приходили новые кандидаты, чтобы осмотреть помещение. Тогда я прятался в одной из спален, запирая дверь изнутри.
Ознакомительная версия.