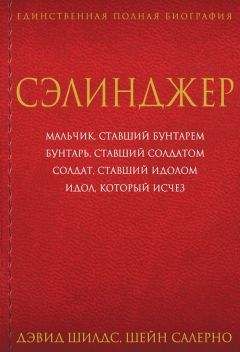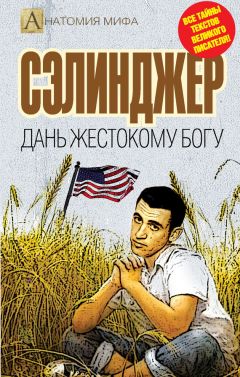«Ох, – сказал он, – наверное, они попали в другую кучу. Не знаю. Не помню, чтобы видел письмо от тебя. Извини, что так вышло». Он повторил то, что говорил годом ранее: он – всего лишь беллетрист; он живет здесь не для того, чтобы помогать людям вроде меня; он – просто отец, у которого есть сын.
Во время моего второго приезда Сэлинджер выглядел чуть постаревшим. На его лице лежала печать большего беспокойства. Одет он был в джинсы и футболку, но манера держаться осталась прежней. Он снова и снова повторял свой совет: просто будь самим собой и не слишком обращай внимание на критиков.
«Не думаешь ли, что у тебя есть какие-то обязательства перед поклонниками? – спросил я. – Я хочу написать статью по дороге, может быть, представить ваше мнение по этому вопросу. Ты ведь никогда по-настоящему не обращался к своим поклонникам».
Тут он разразился небольшой тирадой, точно такой, как при нашей первой встрече. «Меня нельзя привлекать к ответственности, – сказал он. – Я не несу никаких юридических обязательств. Отвечать мне не за что. За пределами моих произведений я никаких обязательств не несу. Ты – всего лишь еще один малый из тех, кто заявляется сюда и хочет получить ответы, а у меня нет ответов».
– Вы спрятались от поклонников и перестали публиковаться.
– Роль публичного писателя противоречит моему праву на частную жизнь. Я пишу для себя.
– Не хотите поделиться с людьми чувствами, положенными на бумагу? – спросил я.
– Нет, – отрезал он. Помню, что он наставил на меня палец как ствол пистолета. «Вот где писатели попадают в беду». Он высказал сожаление о том, что стал писателем, и назвал писательство «самой безумной профессией». Он считал, что критики чрезмерно анализируют его творчество.
Я спросил его, не хочет ли он поехать и выпить со мной.
Он разволновался и сказал: «Спасибо, нет. Я сейчас занят».
На этом мы и расстались. Я ушел пешком, спустился с холма, сел в машину и уехал в Канаду.
Я написал статью в четыре тысячи слов о моих двух встречах с Дж. Д. Сэлинджером для синдиката New York Times, который распространил ее в СМИ по всей Северной Америке. Я считал, что несу определенные обязательства перед людьми, подобными мне, поклонниками, которые приезжали к Сэлинджеру и перед носом которых захлопывали дверь. Статья вышла примерно через полтора года после моей первой встречи с Сэлинджером в 1978 году. Позднее в журнале People была опубликована статья о моих поездках к Сэлинджеру. Думаю, люди из этого издания попытались взять у Сэлинджера интервью и расспросить его обо мне, но точных сведений у меня никогда не было.
Однажды я видел его у почты в Виндзоре. Он выглядел очень хрупким. Казалось, что сил у него только на возвращение домой, в Корниш. Он заковылял к своей машине и очень подозрительно относился к людям на улице. Думаю, он получал много писем, на которые не отвечал, и в этом смысле почтовое отделение в Виндзоре не работало[120].
Глава 3
Шесть футов два дюйма мышц и лента для пишущей машинки в стрелковой ячейке
Контрразведка, Париж, август 1944 года
Вместе с тремя другими сотрудниками своего контрразведывательного подразделения – Джеком Алтарасом, Джоном Кинаном и Полом Фицджеральдом (они называли себя «четырьмя мушкетерами») – Сэлинджер допрашивал нацистов и гражданских лиц. В разгар кровопролитной войны Сэлинджер, делом которого было представлять, что делает и думает противник, яростно писал художественные произведения. В освобожденном Париже он решает свою личную задачу – находит Хемингуэя, который тоже считал, что писать надо в условиях эмоциональной и физической опасности.
Алекс Кершо: Cэлинджер играл важную роль. Любой человек, имевший во время Второй мировой какое-то отношение к разведке, играл важную роль. Солдаты, молодые парни, которых просили взять лежащую в километре от передовой деревушку, хотели об этой деревне знать все подробности: где находятся пулеметные гнезда, где находятся проходы, закоулки и основные простреливаемые линии. Делом людей вроде Сэлинджера было предоставлять сведения, которые сохраняли жизнь большему числу бойцов.
Важнейший принцип боевых действий: надо знать сильные и слабые стороны противника. Если этого не знаешь, не знаешь и того, с чем сталкиваешься. Делом Сэлинджера было выяснение информации, которая сохранит жизнь американским солдатам, дав им знать, где они будут воевать и с чем они столкнутся.
Сэлинджер и еще двое из «четырех мушкетеров» – Джон Кинан и Джек Алтарас.
Лейла Хэдли Люс: Те немногие фотографии Джерри, которые я видела за многие годы, всегда были сняты тайно. Он как-то прятался от фотообъективов. Те снимки давали мгновенное представление о том, каким был рядовой Джерри. Он считал свое прошлое и то, что он делал в прошлом, сугубо личным делом. И даже больше, чем личным. А секретным. И я догадывалась, что это из-за войны. Из-за того, что он служил в контрразведке.
Джон Макманус: Группы контрразведки имели свойство становиться призрачными на дивизионном уровне. Были мелкие группы, действовавшие в составе батальонов, входивших в дивизии или полки. Некоторые занимались допросами немецких военнопленных, от которых получали информацию; другие сосредотачивались на местном гражданском населении. Сэлинджер делал и то, и другое. Контрразведчики работали на самой передовой, тесно взаимодействуя со стрелковыми ротами. В контрразведке служили интересные типы вроде ребят, для которых немецкий был родным языком, люди, мигрировавшие в США после того, как в Германии к власти пришли нацисты. Теперь эти люди возвращались домой, допрашивая своих соотечественников. А еще в контрразведке служили знатоки французского языка. Люди с лингвистическими навыками, которые были полезны в Европе. Этих людей смешали с теми, кого я называю типами из разведки. Эти были обучены сбору разведывательных данных и наблюдению. Они почти всегда были завербованными военнослужащими и занимались полевой разведывательной работой. Немного приукрашивая, скажу, что они занимались одним из важнейших дел во время Второй мировой. Их обучили не выдаваться; предполагалось, что они будут действовать как тени в тени, и такими они и остались в истории. У армии США была склонность недооценивать разведку. Офицеров разведки ценили меньше, чем, скажем, саперов или специалистов. Такое отношение привело к кошмарным провалам вроде битвы в Арденнах, когда американское командование и понятия не имело о том, что немцы вот-вот начнут наступление.