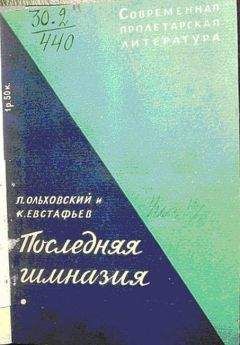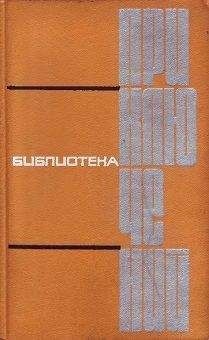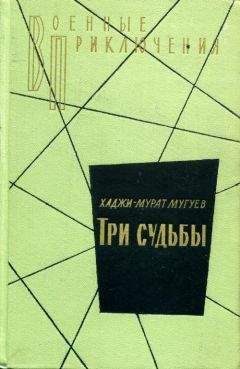Так же, как и в «Кожаных перчатках», повествование ведется лаконично, с той эмоциональной сдержанностью, за которой ощущается напряженность авторского чувства. Рассказ этот не только о девочке, а еще и о себе самом, о том, как переплетались судьбы людей Ленинграда, как в одной судьбе находила отражение другая.
Первые месяцы хоть и изменили Маринкин быт, но она по-прежнему жила своим детским мирком, и немцы для нее были лишь новыми персонажами этого мира. Немца она боялась, как боятся дети чудища из сказки, и вопрос взрослого, что стала бы она делать, если бы в комнату вошел немец, она воспринимает пока лишь как момент увлекательной словесной игры, в которую она охотно включается.
«— Я бы его стулом, — сказала она.
— А если стул сломается?
— Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается — я его лампой. А если лампа разобьется — я его галошей…»
Новая встреча относится к совсем другому времени. Прошло четыре месяца, но какие изменения они принесли! Одна фраза: «Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах» — и на страницы рассказа ложатся страшные приметы ленинградской блокады. Одна, но какая редкая по впечатляемости подробность: «На огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь». Да, теперь любоваться ею трудно. Но на место любования девочкой-куклой приходит большее — жалость, любовь, горестное сочувствие. «Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог». Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.
Именно теперь, когда жизнь в ней едва-едва теплится, твердо и убежденно звучит ее ответ на вопрос, боится ли она по-прежнему немцев: нет, не боится. Совсем иначе отвечает она и на тот, старый, вопрос, что бы она сделала, если бы немец вошел к ней в комнату.
«Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице, казалось, она трезво рассчитывает свои силы: стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.
Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.
— Что? — переспросил я.
— Я его укушу, — сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату».
И вот третья, может быть, самая волнующая встреча. Опять двумя фразами писатель создает ощущение времени: «Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне». Это ощущение усиливается от первых слов Маринки, увидевшей своего друга. «Дядя, — сказала она, обнимая меня, — какой вы седой, какой вы старый…» Оба радуются, что видят друг друга «какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми».
Глядя на Маринку и ее подруг, на этих детей, которые были «еще не дети, а детские тени», рассказчик с особой силой ощущает себя ответственным за жизнь детей, за их будущее. И отвечая на вопрос Маринки о том, скоро ли разобьют фашистов: «Да, скоро», он чувствует, что берет на себя очень большое обязательство. «Это была уже не игра, это была присяга».
Стремление писателя как можно глубже понять, высветить характер защитника Ленинграда определило главную художественную задачу рассказа «На ялике». Все в этом рассказе построено на контрастах. Пперевозчик, человек в неуклюжем плаще по имени Матвей Капитоныч, неожиданно оказывается мальчиком лет одиннадцати-двенадцати, с худеньким, темным от загара лицом, со смешными оттопыренными ушами. Несовместимы тишина чистого неба, солнечный июльский день, где, казалось, могло быть место лишь цветущей зелени, рыбачьим сетям, легкому дымку над маленькими домиками, и неизвестно тогда налетевшая и приносящая смерть гроза, гром зенитного огня, страшная музыка воздушного боя.
Рассказ ведется от первого лица. Рассказчик-автор тоже там, на ялике, и, когда в воду и спереди и сзади, и справа и слева от лодки начинают падать осколки, ему тоже, как другим, становится страшно и тоже хочется нагнуться, зажмуриться, спрятать голову. Но он не мог этого сделать. Перед ним сидел мальчик, который «ни на один миг… не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно», и на лице его нельзя было прочесть ни страха, ни волнения.
Загадка бесстрашия перевозчика волнует взрослого. Может он не боится потому, что еще маленький и не осознает, что такое смерть?
Но оказывается, Мотя знает, что такое смерть: на этом же ялике совсем недавно погиб от осколков фугасной бомбы его отец. «Как же он может?.. как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца?»
И тогда взрослый понимает: в лице Моти, которого бабы называют Матвеем Капитонычем (и это горький знак утраченного мальчиком детства), а командиры на батарее — адмиралом Нахимовым, он встретился с характером, сформированным войной, с человеком, чувствующим себя ответственным за ее исход. Нет, не просто, не легко дается ему утомительная и опасная его работа. Но он убежден: «легче ведь не будет, если бояться». а беспрерывные крики: «Матвей Капитоныч, поторопи-ись!» — свидетельство его необходимости людям и городу, и потому, что бы то ни было, он всегда на своем посту. И днем, и ночью, и в дождь, и в бурю».
Все внимание автора отдано мальчику, но не случайно рассказ называется «На ялике»: перед читателем проходят три героя — отец, Мотя и его младшая сестренка Манька. В представлении читателя они и останутся трое — взрослый, подросток и совсем маленькая девочка, скромно, просто и с подлинным героизмом защищающие от врага свою землю.
В 1943 году по заданию ЦК ВЛКС Пантелеев должен был написать очерк о подвиге Александра Матросова. В его «Записных книжках» есть помета: «Работал с интересом. Матросов — бывший беспризорный, у него трудная судьба». Очерк был опубликован в «Комсомольской правде». Но писатель продолжал еще работать над материалом, ему хотелось со всей глубиной рассмотреть подробности этого необыкновенного характера, как можно полнее описать эту жизнь до последнего часа.
Работая над материалом, писатель пытался подобраться к самому потаенному, к тому, что так глубоко запрятано в душе молодого воина, чего не может высказать Саша сам, потому что, наделенный огромной способностью чувствовать, он не умел облекать свои чувства в слова. Поэтому так лирична интонация рассказа, поэтому так дороги внутренние монологи Матросова, из которых читатель узнает о том, как юноша любит и видит мир природы, опьяняющий его и раскрывающийся перед ним в ослепительно яркой и необъятной красоте; о том, как молодо, жарко он влюблен в жизнь. «Ах, как хорошо, — думал Саша, — какой славный день впереди. И как это вообще здорово и замечательно — жить на свете!»