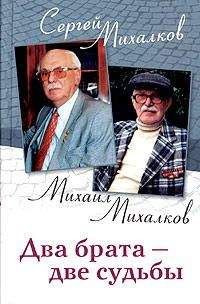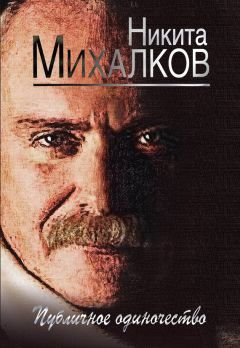«— Господин капитан, все лишнее выложить на стол. — Оберштурмбаннфюреру лет около пятидесяти, он лысый, тучный, голос у него жирный, рокочущий.
Я выкладываю пистолет ТТ, планшет с картами, вынимаю из кобуры „Вальтер“, снимаю с руки компас.
— Часы тоже? — спрашиваю я.
— Часы можете оставить.
— Носовой платок?
— Оставьте.
— Тогда все.
Свой автомат я поставил в углу комнаты при входе в штаб полевой жандармерии.
— Вы свободны, — говорит толстяк лейтенанту и фельдфебелю, присутствующим здесь.
Те уходят, и мы остаемся с оберштурмбаннфюрером с глазу на глаз.
— Садись! — рокочет он.
Я сажусь на стул и чувствую, что в заднем кармане лежат „Браунинг“ и запасные обоймы.
— Когда вы отстали от части?
— Двадцать пятого июля.
— В каком районе?
— Недалеко от города Ауце, шли с юга на северо-восток, на Тукумс.
— Где ваша офицерская книжка?
— Осталась в повозке, вместе с другими документами. Там был мой чемоданчик с личными вещами.
— Как же вы отстали от обоза?
— Из-за одной женщины. Отлучился по личным делам. А на обратном пути в темноте лошадь, перепрыгивая через канаву, оступилась и вывихнула ногу. Всю ночь я с ней провозился, не мог вправить. Отвел на ближайший хутор, а в Тукумc был вынужден добираться на попутной машине. Но в Тукумсе обоза не оказалось, он где-то застрял в стороне от главной магистрали. В поисках его я потерял несколько суток. Начал искать штаб полка — не нашел. Штаб своей дивизии тоже не нашел и явился в штаб полка 218-й дивизии. Оттуда направлен к вам.
— Кто командир вашего полка?
— Полковник Крепе.
— У меня пока все, — пророкотал толстяк, записав мои показания. — К сожалению, я вынужден вас задержать, господин капитан. Правда, условия у нас неважные, но я думаю, что ваше дело в ближайшие дни уладим. Так что придется немного потерпеть. Я постараюсь облегчить, как смогу, вашу участь. Выходить из помещения вы сможете, когда захотите, только будете давать знать. Я распоряжусь. Питаться будете лучше, чем другие. Табаком я вас обеспечу.
— Спасибо за заботу, — буркнул я.
— Лейтенант! — гаркнул толстяк. — Отведите капитана. — И тут же добавил, обращаясь ко мне: — Пояс и кобуру тоже оставьте здесь.
И вот меня приводят в какой-то сарай. Кругом кромешная тьма. Понемногу привыкаю, различаю деревянную лестницу, которая ведет на второй этаж, — там какое-то помещение, видимо с окном. Хозяева хутора занимают полдома, тайная полевая полиция — две комнаты. Рядом с нашим сараем — свинарник (слышно похрюкивание свиней). У хозяина есть и корова. Кроме меня, в сарае еще трое — немецкий солдат и двое гражданских: все они лежат внизу на соломе. В углу стоит параша. Я ложусь рядом с арестованными. Они молчат, я тоже. Два раза в день нас выводят во двор. Меня конвоируют отдельно.
„Не обыскивали, — думаю я. — Значит, не положено обыскивать офицера дивизии СС по уставу или потому, что взят не с поличным“.
Арестанты каждый день меняются. Одних уводят, других приводят. Вот привели трех русских и одного латыша-подростка и в тот же день увели. Потом были два литовца и немецкий солдат-дезертир. Потом доставили еще одного русского, лет тридцати пяти, в ватнике.
На четвертый день оберштурмбаннфюрер вызвал меня к себе в кабинет.
— Могу вас порадовать, дорогой капитан! — объявил он. — Я же сказал вам, что не пройдет и недели, как я улажу ваше дело. Ваш вопрос решен. Вам полагалось два года концлагерей за дезертирство, но вы их избежали. Вам крупно повезло!
— Так что же решило начальство? — поинтересовался я.
— Ваша часть найдена. Правда, она уже в Германии, но я добился своего. Я надоедал, пока они не выслали сюда в котел офицера из штаба вашей дивизии. Он уже вылетел самолетом в Латвию — пришла радиограмма. Он вас заберет с собой, он вас знает лично. Таков порядок! Прибудете к себе в часть, а там все образуется. Чего только на фронте не бывает. Головы теряют люди, не только офицерские книжки. Ну как, надеюсь, вы довольны?
Я обомлел.
— Ну конечно, господин оберштурмбаннфюрер. Отлично! — с трудом выдавил я, стараясь улыбнуться, и тут же почувствовал, что капли холодного пота выступили у меня на спине под кителем и на лбу.
— Ждите. Сегодня, в крайнем случае завтра ваш коллега уже будет здесь.
„Очная ставка! Очная ставка!“ — стучало в мозгу, когда я шагал под конвоем через двор. Ноги стали ватными, и я их не чувствовал. „Очная ставка! Он знает убитого офицера лично… Я погиб!“
Было около десяти часов вечера. Я лежал на соломе, лихорадочно обдумывал свое положение и искал выход. Лежу, нервничаю. Прошусь в уборную. Стою там, наблюдаю за часовым. В щели между досками вижу второго, который сидит на крыльце, покуривая. „Да, отсюда не выйти! Перепрыгну через забор — скосит из автомата. Убью обоих часовых — из дома выскочат другие…“
Возвращаюсь в сарай, меня окликает толстяк. Иду к нему, как на плаху. Вхожу. Он один, протягивает мне сигареты.
— Ну как, замучились ждать? Скоро, скоро… Не беспокойтесь, а то бы суд… Зачем вам это нужно?! Сейчас стало строже… Но у вас, надеюсь, все обойдется… Сначала мне, правда, предложили привезти вас в Салдус, но я сказал: „Дорога плохая — дожди…“ — „Ладно, — говорят, — офицер к вам сам приедет. Передадите с рук на руки“. Отдыхайте, уже одиннадцать часов.
Снова сижу в сарае. В кармане у меня сигареты, кусок сыра и кусок колбасы от обеда. Остальным давали только хлеб и кофе. Я придвигаюсь к русскому в ватнике. Дергаю его в темноте за рукав. Двое других спят, прижавшись друг к другу. В сарае холодно. Даю соседу колбасу, сыр, сигарету. Он доволен, начинает жевать.
Через некоторое время шепчу ему по-русски:
— Поднимись наверх. Поговорить нужно.
Русский удивлен. Услышав русскую речь, он соглашается. Крадучись, лезем на второй этаж. В вечерних сумерках можно различить небольшую железную печурку, стоящую под окном.
— Как тебя зовут?
Парень несколько озадачен.
— Григорием звать, — помедлив, отвечает он.
— А ну подсади меня, я погляжу наружу. — Я встаю на печурку, подтягиваюсь на руках. Григорий поддерживает меня за ноги…»
Поздней ночью Михаил все-таки с помощью Григория прыгнул вниз… и потерял сознание. И кое-как встал, и ушел, ушел… Очнулся в палате для немецких раненых… потом — в трюме… Потом был Кенигсберг…
Было и такое:
«Как-то я спустился вниз, на первый этаж. Вижу, пожилая немка в белом накрахмаленном халате убирает коридор, подметает пол. Около палатных дверей, где я стоял, образовалась куча мусора. Я обратил внимание на клочки газет и вдруг, на одном из них, к своему удивлению, прочитал: „Стихи С. Маршака и К. Чуковского“. Я поднял с пола кусок газеты и незаметно для окружающих прочитал два стихотворения. Это была власовская антисоветская газета на русском языке, и вымели ее, очевидно, из палаты власовцев.