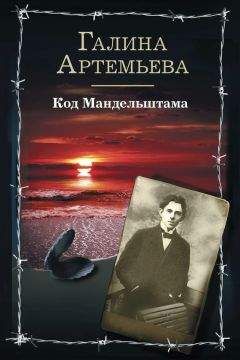Ознакомительная версия.
Тематически это произведение сопоставимо со «Зверинцем» (1916):
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели…
Но 1916-й и 1923 годы разделяет пропасть. В 1916 году еще жива надежда прогнать «в ночь глухую» «всполошенное зверье».
«Мы для войны построим клеть», — надеется поэт.
Еще раньше, в 1915 году он пишет: «Я в этой жизни жажду только мира…»
И вырвется горький вздох: «Когда бы грек увидел наши игры…» («Я не увижу знаменитой „Федры“, 1915).
Вздох этот — первый диалог с Пиндаром, как ответ на вопрос прославленного певца греческих игр: «Сердце мое, // Ты хочешь воспеть наши игры?» из «Первой олимпийской песни».
Тогда, в «Зверинце» возникнут образы-символы воюющих держав: германский орел, британский лев, галльский петух, российский «ласковый медведь». Легко узнаваемые грозные, но не страшные звери, которых, кажется, легко запереть в зверинце и «успокоиться надолго».
В 1923 году он пишет иначе. Жестче и безысходней, в 1916 году у ночи устоявшийся, привычный эпитет «глухая».
Сейчас ночь — врагиня.
Слово из страшной сказки, в которой нет ничего из когда-то существовавшей реальности.
Действительность видится поэту неприемлемой, и это отражается в мельчайших деталях, например в одной строчке использованы два слова с корнем «враг/враж»: «Врагиню-ночь, рассадник вражеский…»
Глухая ночь, вобравшая в себя зверье прошлого, рождает теперь не похожих ни на что прежнее чудовищ, «существ коротких ластоногих». Старый, человеческий мир сгинул, началась «власть немногих».
«Итак, готовьтесь жить во времени, где нет ни волка, ни тапира», — предупреждает поэт. Он сам разрушает недавно им же провозглашенное в «Актере и рабочем» братство лиры и молота, нет больше никаких иллюзий. Молот — орудие победителей. Молот — орудие казни:
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.
Никакие прежние образы зверей-хищников не сопоставимы с образами тех, кого называют людьми:
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя,
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Поэт описывает роковые изменения, произошедшие с человеком его времени.
Его ощущения созвучны тому, что замечал Н. А. Бердяев в тот же период: «Изначально я воспринял моральное уродство большевиков. Для меня их образ был неприемлем и эстетически, и этически. <…> Повторяю, что перевоплощение людей — одно из самых тяжелых впечатлений моей жизни. <…> Это очень остро ставит проблему личности. Личность есть неизменное в изменениях. В стихии большевистской революции меня более всего поразило появление новых лиц с не бывшим раньше выражением. И появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе, появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Ни малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, готовившей революцию. Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Это тип столь же милитаризированный, как и фашистский. <…> С людьми и народами происходят удивительные метаморфозы. Для меня это был новый и мучительный опыт. Впоследствии такие же метаморфозы произошли в Германии <…> Я вспоминаю о годах жизни в советской России как о времени большой духовной напряженности. Была большая острота в восприятии жизни. В коммунистической атмосфере было что-то жуткое, я бы даже сказал, потустороннее. Катастрофа русской революции переживалась мистически. [67].
У Бердяева «новый антропологический тип» — у Мандельштама победившие для власти немногих существа, которым
…хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих.
И нет уже «умудренного человека» из полного надежды финала «Зверинца», есть лишь обращение к небу, вечное обращение к высокому небу нашей литературы:
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,
И альфа, и омега бури, —
Тебе, чужое и безбровое,
Из поколенья в поколение,
Всегда высокое и новое
Передается удивление.
Слово «ночь» в контексте этого стихотворения совмещает в себе несколько значений.
Это и тьма хаоса (в философско-религиозном смысле),
и время свершения темных дел, и время тяжких событий, это и страх,
и ночь, порождающая смерть, и исключительно мандельштамовский оттенок: ночь — враждебная женщина, с которой связан кровными узами, ночь — мачеха.
Список стихотворения «А небо будущим беременно», сделанный Н. Я. Мандельштам, очевидно, не случайно подклеен к вырезке из «1 января 1924 года», которое также ознаменовано специфическим отношением к ночи:
Какая боль искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
«Ночные травы» — плоды творчества, поэтического вдохновения. Образ ночи здесь состоит из следующих слагаемых:
НОЧЬ — боль — болезнь — умирание, окаменение («известь в крови») — отчуждение от своего времени — творчество не для сейчас, а для потом.
То, что создается теперь ночью, рождается для чужого племени, для тех, кто (может быть!) «найдет подкову», откопает окаменевшее зерно, сможет прочесть по форме застывших губ последнее сказанное слово. Им достанутся собранные ночные травы поэзии Мандельштама.
Пустота «советской ночи» ведет поэта к творческому кризису, который наступит в 1925 году.
Это время кризиса многих больших поэтов ощущалось людьми чуткими как особенное, как время омертвения, остановки: «Нигде ничего не “вертится”», все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается… неужели это может тянуться десятилетие? — от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории. Была аракчеевщина, были николаевщина и Александр III, но это были деспотии, давившие стопудовыми гирями «отсталой идеи», а сейчас не деспотия и даже не самодурство, а гниение какого-то налета, легшего на молодую и живую кожу; этот налет обязательно сгниет и погибнет и поэтому все, что сейчас — совершенно бесплодно, в гораздо большей степени бесплодно, чем аракчеевщина и Александр III.
Ознакомительная версия.