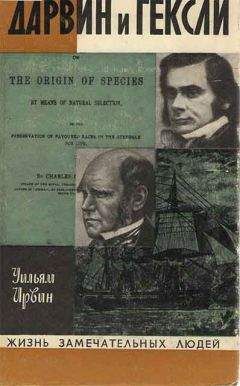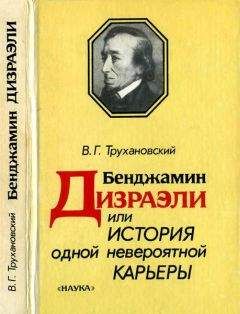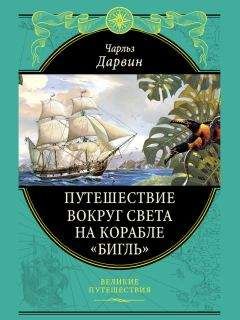Дарвина посещали в те дни минуты творческого восторга. Он, упивался — хоть и не без содрогания перед коварством законов логики — тем искусством, с каким совместил теорию естественного отбора со всеми шероховатостями эволюционных процессов. Больше того: он не мог не видеть, что его идеи, в случае если их признают, окажут громадное воздействие на современную мысль и науку. «Моя теория, — писал он в одной из ранних своих записных книжек, — вдохнула бы новый смысл в сравнительную анатомию современных и ископаемых форм: она привела бы к изучению инстинктов, наследственности, умственной наследственности, всей метафизики».
В такие минуты он остро ощущал неотвратимую безотлагательность своей задачи, настоятельную потребность в покое, свободе от всего, кроме одной всепоглощающей идеи своей жизни. Но кто и когда бывал свободен и спокоен? «Одиннадцать детей — святая Мария! Нешуточная забота на одну голову, — подавленно восклицает он в письме к своему бывшему однокашнику Фоксу. — Право же, я взираю на пятерых своих мальчиков как на нечто страшное, и сама мысль о выборе для них профессий мне ненавистна». Деньги были символом назойливой житейской деловитости, мучительной шаткости людского благополучия и обеспеченности; достаточно состоятельный и неизменно щедрый, Чарлз относился к деньгам с беспокойством и особой аккуратностью. Он проявлял бережливость в некоторых мелочах, иной раз совершенно бессмысленную — так, скажем, он имел привычку экономить бумагу. Он берег не только частично исписанные листы, но даже бросовые клочки и обрывки, полушутливо сетуя «на небрежную манеру швырять в камин бумажки, которыми зажигают свечу».
За всеми мелочными его тревогами стояли две большие: что у него не хватит сил завершить свой труд по изучению видов и что детям его не хватит сил содержать себя и жить нормальной, здоровой жизнью. «Если бы твердо знать, что у них сносное здоровье, — продолжает он в своем письме к Фоксу, — тогда бы еще не так было страшно, потому что нельзя не надеяться, что при нынешней эмиграции положение образованных, людей станет несколько лучше. Но у меня вечное пугало — наследственная хилость».
Пожалуй, ничто в такой мере не побуждало его изложить свою теорию на бумаге, как страх умереть, не закончив работу. И все-таки даже большой его труд 1844 года казался ему бедным и неполным отражением его изысканий. Сразу же по его завершении Дарвин написал своей жене письмо, трогающее глухо ощущаемой в нем мольбою: он торжественно поручал ей пригласить в случае его смерти редактора, который за вознаграждение в четыреста фунтов подготовил бы его труд для печати. Работу следовало расширить, исправить, обосновать материалами, собранными в его библиотеке. Список желательных редакторов начиная с Ляйелла и кончая Гукером тоже трогательно велик. В 1854 году он сделал на обратной стороне пометку, что предпочтительней всех был бы Гукер.
Все это свидетельствует о том, что Дарвин едва ли рассчитывал увидеть, как примет его теорию мир. Оно и понятно: проблема была так необъятна, тесно переплеталась со столь многими областями науки, требовала исследования таких тонкостей и сложностей, что самый энергичный, работоспособный здоровяк мог бы отчаяться исчерпать ее за одну жизнь. «В самых дерзновенных моих мечтах, — писал Дарвин приблизительно в 1845 году, — мне видится только возможность показать, что у вопроса о неизменности видов есть две стороны, о большем я и не помышляю». И все-таки, даже если ему нельзя было сказать «да», он хотел сказать свое «нет» как можно более внушительно. А оставался еще безмерный, нравственно неотложный долг перед усоногими рачками. Гукер и собственная совесть внушили ему, что никто не вправе браться за проблему видов, не изучив и не описав предварительно множество частных случаев.
За годы от 1851-го до 1854-го он опубликовал в виде четырех монографий свою работу об усоногих рачках. Теперь ничто не мешало ему посвятить все силы эволюции. В любую минуту его кто-нибудь мог опередить. Ляйелл, с сомнением относясь к любой теории эволюции, все же настойчиво убеждал его немедленно издать хотя бы краткий очерк. Гукер этого не советовал. Он считал, что Дарвину не подобает предварять самого себя малозначащей и необоснованной статьей, а следует как можно скорей написать и опубликовать солидный, капитальный труд. — После недолгих сомнений и вялой попытки начать с очерка Дарвин решительно засел за книгу, по замыслу раза в четыре превышающую объемом «Происхождение видов».
Бежали годы. Росли кипы материала, все длинней становилась книга. Конечно, он старался работать как можно быстрее. По существу, он, как это часто бывает с медлительными людьми, все время жил в затяжном приступе тщетной и судорожной поспешности. Так, когда из разговора с Джоном Леббоком выяснилось, что недели три работы потрачены впустую, он с болью писал Гукеру: «Во всей Англии не сыскать такого злосчастного, бестолкового, тупого осла, как я, — плакать хочется от досады на собственную слепоту и самонадеянность».
Было страшно, что его опередят, еще страшней — что его поднимут на смех: ведь его проблему своими сумбурными, при всей их оригинальности, домыслами успели дискредитировать Ламарк и «господин Рудимент»[59]. Нужно же было, чтобы нечто столь претенциозное досталось именно ему! Какой прискорбный парадокс! «Не раз я спрашивал себя, — писал он Ляйеллу, — не посвятил ли я жизнь пустому измышлению», а позже он очень удивился, обнаружив, что Гукер, кажется, крепче его самого уверовал в принцип естественного отбора. Никогда не случалось, чтобы, предлагая Гукеру или Ляйеллу свежую мысль, он не остерег их вначале: «Вам все это представится сущим вздором». Воображение его было сухим и строго прозаическим. Им владела идея экономности в теории. От прихотливых фантазий Форбса он физически заболевал. Сознавая, сколь уязвимы его собственные позиции, он был все же возмущен тем, как смело последователи Ляйелла позволяют себе рассуждать о пропавших континентах, и даже послал отцу современной геологии горячий протест, подкрепленный в дальнейшем письмами и огромным количеством фактов.
«Положите этому конец — не то, если только есть в преисподней особое место, где карают геологов, боюсь, мой великий учитель, что Вы в него угодите. Помилуйте, Ваши ученики потихоньку да полегоньку оставят позади всех приверженцев пресловутой теории катастроф, вместе взятых. Погодите, вы еще станете великим вождем катастрофистов».
Кроме прочих страхов, Дарвина мучило опасение, как бы его не приняли слишком серьезно разные очень серьезные люди. До его родственников постепенно дошло, что он готовит к печати пространное и ученое богохульство. Грозным должен был казаться священный их ужас — единое чувство родни, такой многочисленной и тесно спаянной, такой любящей и достойной уважения, как Веждвуды и Дарвины. Каков же будет священный ужас целой нации! И чем более сильное впечатление произведет книга, тем более исступленным и священным будет ужас. Наверное, по крайней мере, подсознательно ему хотелось отодвинуть решение этой мучительной дилеммы, а возможно, избежать ее вообще. «Я готов думать, что Ляйелл прав, и более обширной работы мне никогда бы не одолеть, — писал он Уоллесу, когда закончил «Происхождение видов». — …Мне думается, что в научной деятельности я почти исчерпал себя». Конечно, потом, когда «Происхождение» было уже набрано и он убедился, как поразило и потрясло оно людей, подобных Гукеру и Ляйеллу, он отчасти забыл свои страхи и нетерпеливо ждал, какое впечатление оно произведет на мыслящего читателя. «Быть может, Вы сочтете меня излишне самоуверенным, — писал он Гукеру, — но я думаю, что моя книга найдет известное признание… среди ученых и людей, причастных к науке; а думаю я так оттого, что убедился по разговорам, как неожиданно велик интерес к этому вопросу».