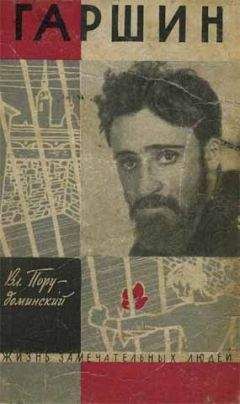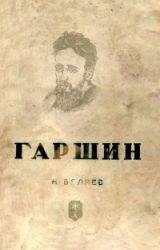«Мы с тобой достаточно убедились в плохом положении нашей армии. Мы хотим уходить из нее именно потому, что в ней для нас скверно, душно. Если так будут рассуждать все, видящие гадость в военной среде, то никогда и среда не изменится. Не лучше ли там влезть в эту среду? Может быть, что-нибудь и сделаем путного. Может быть, со временем мы будем иметь возможность не дозволить бить солдата, как это делается теперь, не дозволить вырывать из его рта последнюю корку хлеба…»
Мысль прослужить некоторое время прапорщиком где-нибудь в «глухой армии» не оставляла Гаршина…В комнату на Офицерской был втащен большой простой стол. Гаршин собственноручно обил его клеенкой. Поставил лампу, чернильницу. Положил пачку бумаги. Глянул со стороны — до чего ж славно вышло! Решил: «Здесь засяду на годы». Неотрывно трудился над «Происшествием». А через месяц почувствовал — надоел Петербург. Надоели предложения: «Не напишете ли и для нас?» — мешают думать, работать. Надоели делающие честь знакомства — знаменитости подолгу задерживают руку его в ладони, поучают, пророчествуют. Надоело мучительно думать, как быть дальше. И вдруг показалось: махнуть сейчас к родным пенатам в Харьков, весенний, набирающий соки, окунувшийся в первую, прозрачную зелень, — и все вдруг решится, и станет легко, и мысли, что теснятся в голове, свободно потекут с пера.
Гаршин провел в Харькове весну и лето семьдесят восьмого года. И ничего не писал. Застыл. Затосковал. Ну, Харьков — город как город. И ничего в нем не изменилось с тех пор, как он рвался отсюда в Петербург. И у родных пенатов все по-прежнему. Недовольная мать укоряет его в лени и неусидчивости — побольше бы писал да печатался, давно бы вылез «в самый центр». Раиса, Раечка — та, пожалуй, переменилась несколько: повзрослела, стала этакой заносчиво-снисходительной барышней, как мило позволяет ему себя любить! И снова он один на один со своими вопросами. Сохнут чернила в огромной фамильной чернильнице. «Мне очень плохо: хандрю, потому что не могу ничего делать, ничего не делаю, потому что хандрю…»
Необходимо было решиться на что-то. А Гаршин тосковал. Не мог заставить себя писать — способен ли он еще расшевелить в людях мозги и чувства? Не мог убедить себя отправиться в Видин, где стоял полк, — да выдержит ли он армейскую скверность и духоту? Уныло долбил латынь. Читал — хоть чем-нибудь заняться! — фишеровскую «Историю новой философии». И говорил о себе: «Ничтожество!»
Думы о литературном труде и об армейской службе, воспоминания о войне (так никогда и не залеченная рана в сердце), колебания, сомнения — все это мучило, вызывало боль, копилось, зрело — и вдруг, как и бывает большей частью у художнических натур, вырвалось, стало облекаться в образы, двигаться, мыслить. И тогда полегчало. Так оживала Галатея под дыханием влюбленного Пигмалиона; оживала, возвращая жизнь самому мастеру. Гаршин начал писать «Труса».
Тихо, чтобы не спугнуть зыбкие еще образы, писатель собрал чемодан и отправился обратно в Петербург.
Царица изволила пожаловать пособия раненым офицерам. По сто рублей каждому. Гаршину назначили двести. Он посмеивался: «Уж не играет ли тут какую-нибудь роль моя литература?» Царица вовремя поспела со своим пособием: Гаршин трудился над «Трусом» — рассказом об ужасах войны, о ее ненужности, о страданиях, которые она приносит.
Это был ответ тем, кто читает пропитанные кровью сводки — «убито 50, ранено 100» — и радуется: «Потери незначительны!» Тем, кто приходит в ужас оттого, что господина ограбили на улице, а в лихой статейке деловито подводит итоги: «Потеряй Россия и 200 тысяч солдат, и то большого ущерба не будет…»
Дома, в кругу близких, любящих людей, умирает от тяжелой болезни один из героев рассказа — умный, симпатичный юноша-студент. Жаль его? Еще бы! Но как же тогда можно спокойно читать сообщения о тысячах простых русских мужиков, одним мановением перста навсегда уложенных на покрытых снегом полях, где-то вдали от родины?
И потому черные буквы на белом газетном листе кажутся валящимися рядами людей, а перо — оружием, наносящим бумаге рваные раны. В таких, мучительно ощутимых деталях предстает война перед тем, кого лицемеры называли «трусом», — за то, что он был против войны.
Мысли о войне преследуют его. Как и сам Гаршин, как и многие их современники, «трус» пытается постигнуть природу и сущность войн — и не находит ответа. Но он осознает войну как узаконенное убийство людей — и протестует против этого.
«Трус» — название сатирическое. «Трус» против войны, но он не остался с теми, кто возбуждал в других «боевой дух», сидя в ресторациях на Невском. Он смелый человек. Он не боится гибели. Вместе с тысячами «других» он идет на войну. И погибает.
Господа офицеры из завсегдатаев военных и гражданских борделей, имевшие несчастье заразиться сифилисом, обитали в одной из палат петербургского Николаевского госпиталя. Пьянствовали. Играли в карты. Скандалили.
Соседняя палата, в которой лежал Гаршин, считалась тихой. Здесь тоже играли в карты, но без скандалов и мордобития. Зато здесь разговаривали о службе — о представлении к чинам, кознях штабного начальства и о том, как какой-нибудь поручик «поддел» адъютанта или командира.
Гаршина положили в госпиталь на освидетельствование. Ссылаясь на больные нервы и рану в ноге, он просил уволить его в отставку из армии. Выбор был сделан. В госпитале под пьяные вопли одичавших от скуки поручиков («что за монстры… почти исключительно существуют» «в военной службе»!), под бесконечное переливание пустопорожних «служебных» разговоров («офицерство надоело хуже горькой редьки») Гаршин закончил «Труса».
…Просьба об отставке была заказана писарю. Гаршин шел по хмурым осенним улицам, радостный от ясной убежденности, что поступил правильно. Липкая, удушливая тоска трехнедельного госпитального заточения позади. В памяти осталась только вереница типов — никчемных и своеобразных, пустых и погубивших свой дар, — переплетение черт, черточек, штрихов. Да в сердце осталась приятная, легкая теплота, словно солнечный зайчик пробежал по сердцу: в госпитале Гаршина навещали студентки-медички, и среди них была одна — Надежда Михайловна Золотилова, Надя. Такая славная!..
Дни были заняты делами: Гаршин начал ходить на лекции в университет, снова давал уроки, помогал Герду в составлении «Определителя птиц Европейской России». И писал. Много и успешно. В труде снова пришла уверенность: только литература — его призвание.
Гаршин шел в «Отечественные записки». Он пощупал рукой карман, аккуратно свернутую пачку бумаги. Представил себе, как войдет сейчас в кабинет к человеку со строгими, пронзающими и добрыми глазами, положит перед Михаилом Евграфовичем новый рассказ — «Трус». И будет волноваться — он отдал долг. И будет знать — долг отдан не сполна: давно задуманная книга «Люди и война» еще не начата.