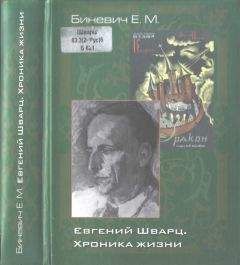Все эти осенние и зимние месяцы 1941 года, видя, как угасает его жизнь, я не раз возобновляла с Евгением Львовичем разговор об эвакуации. И каждый раз он отказывался, а в дни, когда мы все были увлечены замыслом «Одного дня», даже рассердился:
— Да вы что? Теперь, когда такое дело начали!
То, что это дело сорвалось, тягостно отразилось на его настроении, да и все мы были удручены. Евгений Львович уже с трудом добирался до Союза, знакомый путь стал невыносимо долгим — расстояние, которое мы до войны проходили за двадцать — тридцать минут, теперь требовало полутора — двух часов.
— Я бы добежал, да ноги не хотят, — пошучивал Шварц. Настал день, когда я увидела его таким опухшим и слабым, что никакие шуточки не помогали ему скрыть правду. Я спросила напрямик:
— Женечка, ведь пора?
— Кажется, пора. — Он силился улыбнуться, но это у него не получилось. — По — видимому, мне полагается произнести сейчас ритуальное: «А вы? Уезжайте и вы…» Надо это делать?
— Не надо. Я еще продержусь.
В этом не было ни рисовки, ни какой‑либо доблести. Я действительно не могла уехать, потому что мой отъезд
показался бы бегством или свидетельством безнадежности положения тем людям, которых я столько времени убеждала держаться. И мне действительно было легче, чем многим, потому что я была занята с утра до вечера и чувствовала весь груз ответственности, а это в то время сильно помогало. Некоторым обывателям представлялось, что у меня есть какие‑то привилегии, может быть, тайное дополнительное питание или, как говорил один не очень умный товарищ, «забронированное место на самолете». Шварц прекрасно знал, что ничего подобного нет, но понимал, почему я не могу уехать, и поэтому не произнес «ритуальных слов», которые мне приходилось слышать от уезжающих. Только попросил не забывать Заболоцких и отправить их при первой возможности. Я выполнила его просьбу, как только началась эвакуация через Ладогу по «Дороге жизни».
Рада я была, что удалось спасти Евгения Львовича — останься он еще, долго бы не протянул. Но после его отъезда все чего‑то не хватало…
В 1945–м, когда он вернулся, мы обнялись как родные. Да так оно и было — «крещенные блокадой». А встречались не часто — от случая к случаю. Однажды он пришел ко мне на какое‑то дружеское сборище, в середине ужина стал шарить по книжным полкам и отбирать книги, которые ему приглянулись. Сразу снял три тома русских сказок, подаренные мне М. К. Азадовским.
— Ку — да?? — закричала я.
— Как вам не стыдно жадничать? — откликнулся Евгений Львович. — Мне же они гораздо нужнее!
Года через два, когда я зашла к нему в Комарове на дачу, он мне сообщил, что на днях был его день рождения, и снял с полки первый том сказок:
— Надписывайте дарственную. Я с удовольствием надписала.
В блокадную зиму он как‑то сказал мне: у нас с вами есть одно преимущество — видеть людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. В этом нам можно позавидовать.
Зоркость понимания осталась у него навсегда, он как бы сам прикидывал и «выворачивал наизнанку» скрытую суть. Так, он сказал про одного приятеля:
— Он очень славный человек… когда у него полоса невезения. Когда он в полосе успеха, лучше повременить со встречами.
В 1949–1950 годах мне было очень плохо, Евгений Львович часто заходил ко мне и однажды своеобразно утешил, нарисовав в воздухе зигзагообразную линию:
— Сколько я вас знаю, с девчонок, у вас вся жизнь идет так, зигзагами: то вверх — вверх, то у — ух вниз! Теперь у вас у — ух? Значит, ждите поворота к доброму.
Евгений Львович был добродушен и не любил встревать во всякие споры и дискуссии. Но своего мнения никогда не скрывал и умел быть принципиальным. Когда вскоре после выхода романа «Не хлебом единым…» у нас в Союзе неожиданно, даже не предупредив ни устроителей, ни приехавшего по нашему приглашению Дудинцева, отменили обсуждение, Шварц одним из первых подписал телеграмму протеста.
— Мне роман не очень‑то нравится, — сказал он мне, — но спор должен идти открытый, без администрирования.
Повстречав Шварца на улице, один из виновников запрета (как и все, любивший Евгения Львовича) пожурил его:
— Вы‑то, вы‑то как подписали телеграмму? Евгений Львович изобразил смущение, спросил:
— Признаться, что ли? — И, наклонившись к обрадовано насторожившемуся собеседнику, шепнул ему в самое ухо: — Под пытками.
В последние годы жизни он безвыездно жил в Комарове. Раза два приезжал ко мне на дачу, почему‑то на маленьком дамском велосипеде. Оберегая больное сердце, вращал педали еле — еле, так что велосипед катился, вихляя, совсем медленно, а Шварц громоздился над рулем, большой, улыбающийся, с готовой шуткой на губах. Посидит, поболтает и уедет, — ничего особенного, а долго еще ходишь с улыбкой.
Потом он уже не мог ни приезжать, ни приходить, я иногда навещала его, но Екатерина Ивановна не привечала гостей — уж очень много их было, допусти — в доме с утра до ночи толклись бы люди, а Евгению Львовичу было уже очень плохо. Гораздо хуже, чем казалось…
Вот уже много лет его нет с нами, жизнь есть жизнь — идет дальше, а по — прежнему остро чувствуешь — чего‑то в ней не хватает; очень хорошего, нужного, светлого — не стало.
Евгений Львович попал в Ленинград, в сущности, уже сформировавшимся человеком — актером ростовской труппы; казалось бы, провинция должна была наложить на него свой неизгладимый отпечаток.
Но на каждого, кто встречался с Шварцем впервые, он производил впечатление коренного ленинградца, из тех, кого принято называть петербуржцами. Трудно дать исчерпывающую характеристику этого редкого, к сожалению, типа. Одним из признаков его является большая культура, не односторонняя, не ограниченная рамками своей профессии, но свободно переходящая в соседние, а подчас и в весьма отдаленные области знаний.
Широта культуры соединяется в этом типе с безупречным вкусом. В коренных ленинградцах это не только понятно, но даже естественно: город, построенный как произведение искусства, с детства воспитывает в человеке чувство прекрасного, если, разумеется, этот человек не страдает природной эстетической глухотой. Но Шварц, повторяю, вырос в провинции, и безошибочность вкуса у него была качеством не врожденным, а благоприобретенным.
Было в нем еще одно качество, которое также служит одним из главных признаков истинного петербуржца, — его можно назвать воспитанностью.
— Воспитанность ты почитаешь предрассудком, — упрекал Чехов брата литератора.
Увы, у нас она до сих пор считается предрассудком. Учтивость и такт, хорошие манеры, приветливость, улыбка признаются необходимыми главным образом для продавщиц, парикмахеров и стюардесс. Для всех остальных воспитанность считается совсем не обязательной. Мало ли у нас работников искусства, для которых искусство, прекрасное, остается только в сфере работы, никак не отражаясь на манере жить, на поведении в быту.