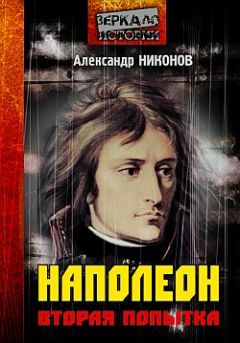В тот день Бонапарт, будучи поручиком захолустного гарнизона, томился в Оксонне, в самых тяжелых условиях. В Валансе было еще сносно. Там наш офицер сначала даже отдавал дань юности. Он посещал местную аристократию, взял несколько уроков танцев, наконец, влюбился было в одну дебелую девицу с задорным личиком. “Я тоже когда-то любил!” – говорил он потом с удивлением. Поручик почитывал романы и немного сентиментальничал: “Вертера” Гете он проглотил пять раз подряд. Но не прошло и полугода, как неугомонный юноша опять погрузился в работу и затосковал. Рукой покаянника написал он тогда: “Любовь – бред, болезнь: я даже считаю ее вредной для всего человечества вообще и для каждого человека в отдельности... Царю мира, мужчине, недостойно томиться в цепях существа слабейшего и разумом, и телом. Разве доверят защиту осажденного отечества или государственную тайну безвольному ребенку, который волнуется от одного движения другого лица?..”
Бонапарт работал усердно, но не в ожидаемом нами направлении. Военная служба вообще не нравилась ему за свою рутину и мелочность: раз он попал под арест за нерадение. Поручик старался запастись только практическими сведениями, особенно по артиллерии, как орудиями карьеры, ремесла. Его занимали больше история да география, а главное – литература. Он поглощал массу книг, черкал их на полях, делал выписки, вдумывался. Тут были древние и французские классики, в особенности же энциклопедисты, экономисты, итальянские филантропы. Но больше всего отдавалась дань тогдашнему властителю дум: дамы даже сравнивали задумчивый взгляд красивого поручика со взорами пророка просвещения. Загнанному бедняку нравилось и уничтожение “привилегированных”, и самодержавие народа с его свободным договором. Он начал было писать жестокое рассуждение против абсолютизма.
Но и чтение запоем не могло унять муки его честолюбия. Угрюмый поручик чуждался даже товарищей. В его дневнике прорывались такие фразы: “Вечно одинокий среди людей, возвращаюсь я домой мечтать с самим собой, отдаваться всей силе моей тоски... Жизнь в тягость мне; радости бегут от меня; все для меня – мучение. Люди, с которыми я живу, далеки от меня нравом, как блеск луны от света солнца. Если бы поперек моей дороги стояла одна только чья-либо жизнь, я не задумался бы вонзить клинок в грудь тирана и тем отомстить за мою отчизну и за попранные законы”.
И немудрено было тосковать. Наш поручик прибыл в Валанс наполовину пешком, вместе со своим любимцем, братом Люи; и оба должны были жить на три франка в день. В Дуэ он схватил болотную лихорадку, которая мучила его семь лет и раз чуть не уложила в могилу. В Оксонне он стал аскетом от безденежья, ел раз в день, спал по шесть часов. А тут худые вести с Корсики: мать чуть не голодала с кучей непристроенных детей.
Бонапарт метался, как лев в клетке. Не забудем, что он причислял себя к “философам”; а их аксиомой было всемогущество разума в смысле личности, которая будто бы может сразу переделывать учреждения и нравы. К тому же наш поручик раздражал себя чтением о великих полководцах и правителях, да о таинственном Востоке, который ждет нового Александра, а покуда обогащает ненавистную Англию. Бонапарт закидывал начальство назойливыми просьбами в пользу семьи, причем лукавил и привирал; но ему даже не отвечали. Бедняга хватался за литературные труды; но он не умел писать и не находил издателей. Впоследствии он тщательно истреблял это бумагомаранье, пропитанное пылким революционным духом. Наконец Бонапарт самолично являлся внезапно то в Париже, то на Корсике, пользуясь отпусками, непостижимыми даже при тогдашней анархии в войсках. Но всюду неудачи: и честолюбец готов был драться с турками на русской службе. Екатерина II не обратила внимания на его предложение. Однако Бонапарт не отчаивался. Когда Летиция плакалась на бедность, он утешал ее так: “Отправлюсь в Индию – и через несколько лет возвращусь набобом, привезу хорошее приданое всем трем сестрам”.
А волны революции уже подымались всюду. По провинциям вспыхивали бунты; брожение овладевало даже четвертым полком в Оксонне. Была уже в огне и Корсика. Наш поручик бросился туда.
Летиция не узнала своего любимца. Прежде она с трудом переносила его туманные фантазии и чванство новою философией; теперь же она увидела перед собой осторожного практика, который смело и ловко брался за жизненные опыты. То была прелюбопытная пора в жизни Бонапарта, но неясная: потом он сам всячески заметал ее следы. В эти-то шесть лет (1789 – 1795 годы) обнаружились в нем редкая самоуверенность и отвага, лукавство и честолюбие. Он говорил тогда в своей семье: “Кто не согласился бы с радостью умереть под ударами кинжалов, лишь бы сыграть роль Цезаря? Один луч славы, выпавший на долю великого человека, был бы достаточным вознаграждением за насильственную смерть”. А своим политическим товарищам он проповедовал: “Закон подобен статуям богов, которые иногда приходится окутывать завесой”. Наш поручик задумал овладеть Корсикой, но в то же время не разрывать с ее поработительницей. “Стану я, – думал честолюбец, – главарем якобинства, и революция наградит меня во Франции. Освободится Корсика – и я перейму роль Паоли”. Отсюда – замечательная двойная игра. Благодаря ловким прошениям Бонапарт большую часть времени провел в отлучках, и отчасти без разрешения начальства. А сам все воевал с Францией. Он превратил клуб “патриотов” в очаг якобинства и независимости острова. Но сначала дело дальше не пошло: ревизор Учредительного собрания назвал этих патриотов “самыми презренными людьми”. Бонапарт возвратился в Оксонн: и ему не только простили все, но и сделали штабс-капитаном, с 1300 франками жалованья.
Настала прежняя нищета, опять с Люи, да муки честолюбия и горевание о голодающей семье. Смутьян развлекался только посещением местных якобинцев да болтовней с крестьянами; в то же время он дружил с сельскими батюшками и ходил к ним на исповедь. Вскоре Бонапарт был переведен в знакомый Валанс, где стало еще хуже: даже жалованье стали платить неаккуратно. А долина Роны становилась очагом радикализма. “Южная кровь струится в моих жилах столь же быстро, как вода в Роне!” – воскликнул штабс-капитан. Он стал председателем местного якобинского клуба. Затем вдруг забрал жалованье вперед, выхлопотал отпуск и снова очутился в Аяччио. Здесь возобновились интриги и волнения пуще прежнего. После подкупов, обольстительных слов, даже драк (причем был побит его же друг, Поццо ди Борго) Бонапарт был выбран в начальники национальной гвардии. И от него житья не стало: он бил ультрамонтанов, захватил их монастырь, чуть не овладел цитаделью Аяччио. Наконец и корсиканцы, и парижские комиссары спровадили буяна с острова, снабдив его деньгами и отличными аттестациями.